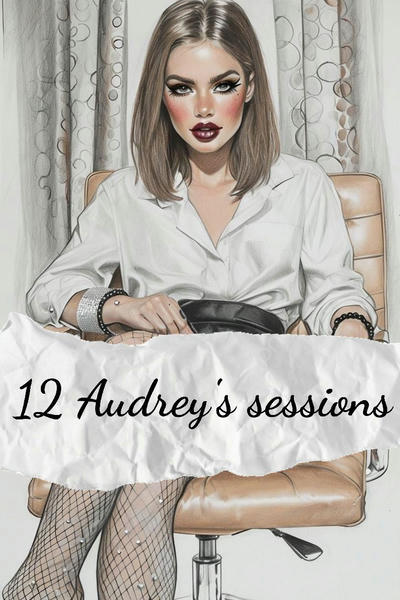
Пэйринг и персонажи
Метки
Психология
Романтика
Ангст
Нецензурная лексика
Заболевания
Развитие отношений
Элементы юмора / Элементы стёба
Элементы драмы
Сложные отношения
Упоминания наркотиков
Упоминания алкоголя
Секс в нетрезвом виде
Нелинейное повествование
Элементы флаффа
Влюбленность
Боязнь привязанности
Первый поцелуй
Character study
Графичные описания
Аддикции
Становление героя
Франция
Асфиксия
Секс в транспорте
От сексуальных партнеров к возлюбленным
Упоминания религии
Патологическое бесстрашие
Трудный характер
Игровое расстройство
Некрофилия
Описание
События складываются причудливым образом: врачебная комиссия, угрожая лишением лицензии обоим, настоятельно "просит" Одри о подтверждении квалификации Малека - ведь тот не так давно ратовал за нее, как за лучшего психиатра города.
Так, Одри вынуждена провести Малеку двенадцать сессий и по итогам каждой написать отчёт. Но что-то ей подсказывает: профессор так просто свое место доктора ей не уступит. И кто кого будет анализировать?
Примечания
Работа, фактически, является логическим продолжением "старого нового бога", однако, является полностью самостоятельной и прекрасно может быть понята без ознакомления с ней.
Таймлайн - 6 серия 2-го сезона.
Посвящение
Моим любимым читателям, которые так круто поддерживали меня на протяжении последней работы ❤️. А ещё котятам. Люблю котят.
Сессия 6. Верность.
10 января 2025, 06:00
Давид — еще тот любитель лукавых ухмылочек и фразы «я же говорил…». Но сейчас, пусть и очень хотелось закидать Одри всякими «а чего ты ожидала?», «это же, еб твою мать, Малек!», «ничуть не удивлен» и проч. и проч., демон натянул маску беспечности, усадил ревущую девчонку в тачку и повез в Астрею.
Пришла идея заехать в бар — да только под алкоголем Одри еще сильнее развезет на слезы и самоненависть: Давид уже успел неплохо выучить «свою любимую оценщицу» и в целом человеческую физиологию. Парень понимал: после истерики, обморока и всунутой неравнодушными незнакомцами подъязычной таблетки (это ж мозгоправская конференция! Там каждый встречный-поперечный — доктор) с алкоголем лучше повременить. Оптимальная стратегия — немного поболтать, чтобы чего не наделала, а в бар — успеется всегда.
Из сумбурных жестов и обрывочных фраз Давид понял мало, а потому, снабдив Одри чашкой чая, принялся расспрашивать о случившемся и слушать. В чашке, гоняемые рябью от дрожи в руках, плавали листья мяты. Одри усмехнулась: вернуть бы времена, когда ковырялась в грядках и отчаянно верила: выращенная мята поможет справиться с любым жизненным стрессом. Когда были живы мама и папа… И Рут. Пальцы бились в немой судороге: ей приходилось прилагать чудовищные усилия, чтобы не расплескать чай. Сбивчивое дыхание становилось все глубже: резкие движение грудной клетки провоцировали рефлекторные всхлипы и новые приступы дрожи. Чтобы успокоиться, дышать следовало полной грудью.
И Одри начала свой рассказ. Даже не знала: крыть Малека последними матами или, наоборот, вступаться? Кто виноват, что она настроила себе воздушных замков? Они же ни о чем не договаривались… Можно ли сказать, что он подлец? Что решил обмануть? Она старательно листала в памяти все странички их «отношений»: секс-секс-слезы-слезы-момент близости, когда вдруг казалось «он меня понимает» — секс-слезы… Если самскары и правда есть, Одри — целиком одно большое родимое пятно прошлого. Разве мир так жесток? Сбивчиво, иногда все еще похлипывая и елозя носком ботинка по ковру, Одри-таки справлялась с задачей, в красках описывая расставленные ноги Марии-Елены и жалкие попытки организатора выяснить, где же профессор Синнер.
«Держи себя в руках, Давид!» — уже рефреном плясало в кучерявой голове. Как бы не хотелось идти бить ебла, стоит хотя бы попробовать проявить рациональность. Давид всегда был за взрыв чувств, спонтанность и бурю бессознательного, но сейчас — когда на эмоциях сама Одри — ему приходилось думать за двоих. Вот бы заставить ее взглянуть на этого Синнера его, Давида, глазами! Она бы тогда все-все-все поняла! А что теперь? Заблокирует его везде: да толку? Сутки, вторые, неделя — и картинка профессора, ебущего другую, начнет меркнуть, уступая место самым сладким воспоминаниям — так уж работает людская пси-хи-ка.
— И что думаешь с этим делать? Тебе надо отвлечься, Ведьмочка…
Одри поднимает свой усталый и заебанный жизнью взгляд на бесенка, отставляет в сторону чашку. И вот она уже сидит на его коленях: даже не сидит: полустоит, обрамляя коленями его бедра. Короткая юбка от резкого движения задирается, под легкой дымкой взятых у Давида колготок проступает кружевная резинка трусов. Одри отдает себе отчет: все выглядит как в дешевой порнушке. Но с этим бесенком ей так легко и спокойно, так индифферентны условности. Может потому, что Давид — не Малек. А, может дело в чувствах — к Давиду их попросту нет.
— Одно ма-а-аленькое дружеское одолжение, Давид… Ну чего тебе стоит?
— А ты уверена? Уверена, что не пожалеешь назавтра?
Несколько верхних пуговиц блузки наконец поддались уговорам: Одри расстегнула верх, и теперь блуза ниспадала с плеч, обнажая элегантную грудь, эффектно перетянутую полупрозрачным бра. Белье — не комплект, и теперь это заметно; глаза мироточащей иконой застыли среди почти непотрепанной водостойкой маскары и дорожек тональника-пудры. Смешная? Может быть. Но в глазах парня Одри видит свое отражение, и насмешки там нет. Вот бы уметь так читать не только этого кучеряшку…
— Юристы… Может, мне еще и форму добровольного согласия и отказа от ответственности заполнить?
Одри Давиду нравилась: бойкая и симпатичная, такую женщину с собой видеть не захочет разве что клинический идиот. Понять Малека Давид не мог совершенно: такие, как Одри — настоящие куколки. Созданы, чтобы заваливать их подарками, носить на руках и не выпускать из постели. Давид так думает, хотя ничего романтического в сторону «Ведьмочки» никогда не питал. Что же Малек? У профессора есть (или, по крайней мере — было) все: полное внимание со стороны Одри, ее преданность, интерес, забота. Ее влюбленность. Что же он творит? Мечется, словно пес на сене: трепет нервы глупой влюбленной девчонке — нахуя? Если ему плевать — почему не отпустит? А если не плевать — хули ведет себя как еблан?
Руки Давида заскользили по изящным бедрам, приподнимая юбку полностью: теперь можно разглядеть все: от ахуенных ляжек до почти талии. Такая невъебенная, сидит на нем в его колготках — одна крошечная мысль греет. А это только колготки! Но в отношении этой ведьмы даже простые чулочно-носочные изделия способны распалить искорку собственничества. Как можно этого не хотеть? Не договориться с ней о верности? Синнер, должно быть, безумен.
— Все не терпится заключить сделку с чертом, а?
Одри выгнула спину, победоносно прикрывая глаза. Сейчас бы забыться, не думать ни о чем… Она льнет к нему: так близко, что уже не может четко видеть. Его губы в миллиметрах… Настоящие, живые, теплые. И она совершенно не боится их поцеловать, не боится его этим задеть. Давид ведь нормальный, поцелуев не чурается… Бесенок моментально сокращает расстояние. Но Одри не выдержала — отпрянула назад:
— Давай без поцелуев… — сама не замечает, как сказала первое пришедшее в голову.
Без поцелуев. Это было бы нечестным по отношению к Малеку… Она первая, с кем целовался профессор: пусть по-детски и скомкано. Это что-то да значит? Да, он ебался с другой, но ведь целует ее… Блять, ну и хуета.
— Блять, Давид, это какой-то абсурд! Не могу! Знаешь, почему?
— Знаю. Потому что я — не твой напыщенный профессор.
— «Он ебался с другой, но целовал-то меня» — нормально? — процитировала Одри свои мысли. — Он выебал какую-то ебанашку прямо у всех на виду… Выебал! А я не могу даже поцеловаться с другим, не могу его не оправдывать. Что это за пиздец?
Давид снял Одри с коленок, утягивая в теплое объятье:
— Шш… Это не пиздец, Одри… Так работают чувства. Иногда мне кажется, что ты — слишком хороша для этого мира. Будь я богом: не позволил бы тебе влюбиться невзаимно, — в голосе парня плескались ноты отчаяния.
И почему она так вцепилась в этого Синнера? Профессор завел на подоконнике нежную розу, а поливает — остатками утреннего чая и вечернего виски. Интересно, почему цветочку плохо? Ей бы бросить подонка — но разве она теперь сможет?
— Сам не верю, что несу такой вздор, но вам бы поговорить… Нет, не чтобы услышать его отмазки или попытки выкрутиться. Чтобы поставить точку. Посмотреть в глаза, а не на снятые штаны и через экран.
— Не могу, Давид! Я имею в виду: что мне сказать? Он никогда мне ничего не обещал. Никогда не говорил, что влюблен, никогда не просил быть только с ним. Он, наверное, и не знает, что я все видела: не хотел задеть моих чувств. Он ни в чем передо мной не виноват. Что я могу предъявить?
— Ты сошла с ума, Ведьмочка. Услышь себя! Знаю, в детстве тебе всегда говорили, что гордость — грех, но сейчас ее капелька не помешает. Твой профессор оприходовал левую мадам, а ты говоришь «не хотел задеть твоих чувств». Чего же он тогда хотел, не подскажешь? Хотя нет, лучше не говори. Не додумывай за него. Предоставь ему возможность объясниться лично. Говоришь, вы перешли рамки «секса без обязательств»? Тогда он поступил, как мудак и самый последний из уебанов. Любые его слова прозвучат глупо. Попроси о встрече, поставь перед фактом, скажи, как есть: ты все знаешь и тебя это ранит. Обещал он, не обещал — какая разница, если тебе так хуево? Ты только и делаешь, что пытаешься уберечь его чувства, пока твоим он устраивает Варфоломеевскую ночь.
— А что потом?
— Я бы — заблокировал везде и отправил в группу «подслушано МЛС» анкету от имени смазливой девчонки с предложением познакомиться и его номером телефона. Но решать, конечно, тебе…
— Сессии еще эти дурацкие… Осталось семь.
— Ох, Ведьмочка… Ты же знаешь: я всегда готов тебе помочь. И мне не многого это будет стоить. Оспорить лишение тебя лицензии — плевое дело, но… Не стал предлагать: тебе бы сделалось только хуже. Ты и так постоянно искала с ним встречи, а тут — такой хороший повод! — комиссия по врачебной этике «обязала». Испугался, что поставлю в неловкое положение, заставляя выбирать между здравым смыслом и симпатичной мордашкой профессора. Что? Не смотри так на меня: каким бы обмудком он ни был, интересного личика у него не отнять. Но полно, я хотел сказать: если ты действительно не хочешь проводить эти сессии, мы что-нибудь придумаем, на любую комиссию управу найдем. Никто не отберет у тебя твою бумажку. Но ты ведь хóчешь, в этом вся проблема.
— Хочу…
доме Оболонских детективном агентстве «Астрея», в сердце Одри. Но чувства эти, хоть и продолжали кипеть, теперь почти все раскрылись — стали уступать дорогу отголоскам рациональности. Одри уже не просто злилась и ненавидела, не просто пеняла на себя — она старалась думать.
— Погоди… Почему ты здесь? Я имею в виду: как ты узнала, что меня можно найти в Астрее? Почему вместо консультации с Малеком?
— Это он меня попросил.
Одри прыснула: ага, как же. Опустится профессор Синнер до того, чтобы просить «свою шлюшку» о чем-то! Но Мария-Елена продолжила, с наслаждением вдавливая окурок в лак столешницы:
— Ты мне не веришь, это ясно. Я бы сама себе не поверила. Но это так. Пришел и попросил с тобой объясниться. Боялся, что тебé может стать больно. Знаешь, своим обмороком ты привлекла к себе чересчур много внимания: тебя даже таблетками, вроде, угощали? Этот черт — который угощал — и намекнул вернувшемуся-таки на конференцию с «неотложной встречи» Малеку: дескать, твои похождения, милок, вывелись вдруг на экран и их заметила та дама, с которой ты был на встрече в ресторане. Не хочу побелкой красить твоего Синнера, но он не просил его отмазывать. Просто… хотел, чтобы я убедилась, что ты в порядке. Он боится причинить тебе боль. Хотя, бьюсь об заклад, если с ним не порвешь — сделает это еще неоднократно. Однако… Он бои́тся. Но будет тебе чуть легче собирать себя из осколков, если будешь знать: он не хотел тебя разбивать?
— Не хочет причинять мне боли? А тогда, в ресторане? «Доктор медицинских наук Одри Браун» — разве это не больно?
Мария-Елена вдруг расхохоталась: звонко и бойко, немного хрипя прокуренными легкими:
— Для нормального человека — может быть. Но не для Синнера. Хотя, тут есть и моя вина. Одри, Малек говорил со мнóй. Он, действительно, хотел причинить боль, но не тебе — мне. Знает, ублюдок, как сильно я комплектую из-за отсутствия степени. Для лицензии нужны часы практики, а до практики меня не допуска-ают: скажем так, в жизни с целью привлечения внимания я совершала немало опрометчивых поступков. И некоторые из них, как оказалось, могут послужить медотводом для медицинской деятельности, — Мария-Елена закусила губу. — Глупая, он гордится тобой. Не особо разбираюсь в этих людских серпентариях и в ваши хитросплетения лезть не намерена тоже, но я бы сказала: ему было приятно иметь красивую, тактичную, а главное — умную, целую докторессу (или докториню?) наук! — в качестве спутницы на том вечере.
Признавать не хотелось, но теперь, когда Мария-Елена утверждала, что с Малеком не спала, Одри даже она начинала нравиться. По крайней мере, куда меньше раздражала уж точно. А ее вольготное поведение, заваленный пеплом диван — теперь даже играли на руку. Одри не чувствовала себя доктором: слишком уж все неформально для сессии. Как будто болтает с экстравагантной знакомицей. А это значит, рассказывать может не только бесцеремонно валяющаяся на тахте дама. Рассказать может и Одри:
— Мне так хочется тебе верить… Но разве есть какой-то смысл? Так или иначе, ситуации бы не вышло, если бы кое-кто умел выражать свои чувства. Какого хуя он так себя ведет? Считает себя умным? Но отрицать что-то в себе — глупее не придумаешь. Сильный человек не борется с эмоциями, он принимает их в расчет. Разве я не имею права злиться на Малека, так или иначе?
Мария-Елена вскочила с тахты и зааплодировала:
— Вау. Воистину, степень делает человека умней… Мне на осознание такой «истины» потребовалось года три… А ты — быстро соображаешь. Не пара он тебе, не стоит и пряди с твоей головушки. Я так считаю. Но — твоя правда — сильный человек принимает свои эмоции в расчет. Наверное, ты с ними и считаешься — потому с ним возишься?
Одри пожала плечами:
— Мне кажется, он меня понимает… Но… Раз все идет так хуево… Может, твоя подружка права? И таким, как Малек, нужны такие, как ты? Ему со мной скучно или что? Почему он всегда вытворяет такое?
— Ох… Ты дурочка, Одри…
— Секунду назад говорила обратное.
— Не считаю, что понятия «быстро соображаешь» и «дурочка» друг другу противоречат. Господи, разуй свои милые синие глазки! Ему никогда не будет с тобой скучно: не потому, что ты можешь выкинуть что-то эдакое: ты не можешь. Но потому, что рядом с тобой он сам становится задачкой повышенной сложности. Он не понимает, что чувствует к тебе — и пытается разгадать. Как всегда забывая в процессе решения обо всех. Вывод — верный, бежать бы тебе от него. И, если когда-нибудь решишься… — Мария-Елена лукаво улыбнулась, — всегда буду рада занять его место в твоей койке. Тебе он совершенно не подходит. Но даже не думай считать, что ему не подходишь ты. Ты — ангел во плоти, потому что терпишь это чудовище. Лучше ему не найти.
— Тоже считаешь его виноватым в этом абсурде?
— Я, конечно, сама не безгрешна… Но, хули врать, виноватым я только его и считаю. У тебя есть право злиться.
— Я не знаю. Если все так, как ты рассказала: я сама проебалась, поняла все неправильно… Он мне ничего не обещал… И, как выяснилась, все равно не изменял…
Дама закатила глаза:
— Когда я такое говорила, душечка? В этом вся проблема твоего Синнера: он, играя, запутывает. И тебя, и себя тоже. Не его бы «паутинки» — бегали бы по свиданкам, конфеты-букеты, все дела. Но ему вечно надо больше, провокации, накал. Я знаю… Сама такая. Только вот, мужиков, с которыми трахаюсь, я не люблю. И на чувства их мне плевать, как и им на мои. И они прекрасно об этом осведомлены и все-равно соглашаются со мной быть — ебаные эмоциональные наркоманы. А Синнер тебя не спрашивает… — Мария-Елена покрутилась у зеркала, оправляя разноперую одежку, — Думаю, нам пора кончать разговор. Тема себя исчерпала. Я пойду, а ты… поговори с этим уебком. Тебе нужно.
— Сегодня пятница…
— У вас с ним должна быть «консультация», да?
— Он не говорил, собирается ли прийти? — Одри ненавидела себя за такое отчаяние в голосе, но… она правильно сказала: сильный с чувствами не борется, он их принимает.
Мария-Елена пожала плечами, приспособляя на себе декоративный вязаный аляповатыми квадратиками шарф:
— Не-а. Но если не придет — будет дураком. Знаешь, — она вдруг стянула с себя вещицу и обмотала вокруг шеи Одри. — Возьми, а? Мне нравится, как на тебе смотрится, — Мария-Елена знала: секунда промедления и Одри начнет возражать. А потому быстренько попятилась к выходу, торопясь покинуть Астрею.
— Стой!
Видно, не успела…
— А?
— Погоди, — уже в коридоре Одри наконец настигла даму. Ей почему-то стало Марию-Елену жалко. Блядская, чертова, ебаная эмпатия. И почему вдруг ей захотелось посчитаться с чувствами «Синнеровской шлюшки», из-за которой пролито столько слез? Но поделать ничего нельзя: Мария-Елена почему-то теперь казалось не «блядью», а соратницей по несчастью что ли… Обе ведь в свое время наревелись стараниями Малека… — Спасибо за подарок. И… у меня скоро день рождения. Придешь?
Мария-Елена обернулась так резко — Одри вздрогнула. Она что, правда приглашает на тусовку? Ее? Бывшую любовницу Малека? Ох, Одри — святая простота… И почему такие, как Синнер, несмотря на все говно, что вытворяют, получают в свое распоряжение сердечки настолько хороших людей?
— Одри, я не та, которой можно вкинуть подобное предложение. Если пригласишь — я приду: «из вежливости» отказываться не умею, не люблю и не стану.
— Я и не ждала, что ты откажешься. Мне просто понравились твои подарки. Рассчитываю получить еще один.
— С кем поведешься… Интересно, ты всегда такой была или научилась трунью у Синнера? — девушки уже вышли за порог, Мария-Елена привычно щелкнула зажигалкой — затлела сигаретка. Погода ясная, редко-редко по белесо-голубому небу проплывали облака. Но мирное посапывание на крылечке Астреи прервал скрип калитки: — О-о! Вспомнишь… надеюсь ты понимаешь, Солнцем я тебя называть не собираюсь, Ма-алек, — напыщенно, Мария-Елена протянула мужчине руку. Растерянный взгляд профессора ее раззадорил: видно, Малек и не надеялся, что она придет и попробует объяснить что-то Одри.
— А мы вот с твоей доктором медицинских наук болтали. Такая милая она у тебя: не будешь беречь — уведу, так и знай, — сигарета, не докуренная даже на половину, поспешно вжалась в облицовку особняка. — Ой, не то слово. Не уведу — соблазню. Она ведь никому ничего не обещала, чтобы ее уводи́ть, да? Надоели вы мне оба! — щелчок, и окурок отправился в урну. — Пойду я. Разрешишь мне на выходе погладить твою песу, Одри? Как ее зовут? Что за порода?
Одри сглотнула. Она, конечно, сто тысяч раз проигрывала в голове, как пройдет ее с Малеком диалог. Но после откровений Марии-Елены… Оставаться с Малеком наедине она пока не готова: не сейчас. Что ему сказать? Разговор предстоял не из простых, и Одри жадно схватилась за последнюю соломинку его оттянуть:
— Бруно! Бруно! Иди сюда, мальчик! Мария-Елена, знакомься: это Бруно, — волк буркнул что-то неясное, косо поглядывая на гостей. Ему не нравилось, когда кто-то приезжал: по-животному хотелось иметь все внимание хозяйки на себе. Если в Астрее никого, Бруно всегда мог расчитывать на порцию обнимашек или глупую игру в прятки. Но стоило появиться чужакам, как они тут же уводили Одри или увлекали разговорами, и волчонку приходилось коротать время в одиночестве. В лучшем случае — с немногословным Касом. А от него вскриков «боже, кто у меня славный??? Ты! Ты!» и отборного мяса всего лишь за принесенную палку не дождешься.
— Ну, не будь грубияном! Ты же хоро-о-оший мальчик!
— Судя по окраске, он волкособ, да? Должно быть, ревнует хозяйку. Такое поведение свойственно гибридам, они очень привязываются к людям, — Малек хотел потрепать пса по холке, но Бруно внезапного «дружелюбия» явно не разделял. Вывернулся и слегка: не сильно, но предупредительно, прикусил руку. Что ж, справедливо. Не стоило Малеку ждать от животинки особенных чувств, тем более, что вся эта эскапада — лишь очередной «диалог ни о чем» — попытка заболтать Одри, только б о произошедшем не говорить. Но на этот раз говорить придется. Давай, Малек: как там? Ты же только и делал, что пиздел про «наслаждение чувствами». Чувство грядущего пиздеца — чем плохо-то? Что, не наслаждается?
— Нам у собак можно мно-о-огому поучиться, правда, Малек? — выпалила Мария-Елена, добив убийственным взглядом. Только она так умела: заварить кашу и вести себя, словно не при чем. Но «словно» — понятие ключевое: на деле девица ситуацию понимала прекрасно, и, как только выбрала подходящий предлог, моментально удалилась из Астреи.
Ну вот: остались вдвоем на пороге. О чем говорить? Как оправдаться? Да и стоит ли? Он же не виноват… Но отчего-то виноватым себя чувствовал: не привяжи он к себе Одри, та бы так не страдала. И начерта он вообще все это затеял? Как все хорошо начиналось, так сладко они вместе трахались…
— Не думал, что Мария-Елена придет…
— Сам же попросил.
— Попросил, да. Не думал, что согласится, — Малек плюхнулся на ступеньку. Заходить внутрь не хотелось: еще не хватало, чтобы давили тяжелые астрейские стены. А тут так светло, тепло и приятно… Одри даже улыбнулась, когда поймала на скулах Малека отблески солнечных зайчиков: все, как она и представляла… Только, тема совершенно другая.
— Зачем тогда просил, если был уверен, что зря?
— Не знаю. Что еще я мог сделать?
— Поговорить со мной. Всегда можешь. Я же обещала.
— А ты бы стала со мной разговаривать?
Видно, все-таки в этой «парочке» смелой придется быть ей. Малек дерзкий, но только почему-то вся его спесь моментально исчезает, как только появляется необходимость обсудить что-то серъезное. Одри резко уселась подле, прищуренно глядя в серые глаза. Ебанный, блять, Малек Синнер! В этих глазах — то полпачки стекла, то жгучая похоть, то ледяная пустота, то какая-то Гейзенберговская неописуемая неопределенность… Как тут разгадаешь? Одри вдруг поняла, почему ему так сложно говорить о мыслях и чувствах, быть открытым. Он не понимает себя сам. Сам для себя он — главная загадка. Это имела в виду Мария-Елена?
— Что между нами, Малек? Если скажешь, что расстояние в двадцать сантиметров — я тебе вмажу.
Теперь и она выучила его наизусть. Он, и правда, планировал отшутиться…
— А что ты хочешь услышать, Одри? Кто мы друг другу? Любовники? Друзья? Пара?.. — последнее слово явно далось ему с трудом. — Почему тебе так не терпится налепить ярлыков? Обозначить все терминами? Обозвать любое, даже едва возникшее чувство?
— Потому что так поступают нормальные люди, Малек. Договариваются о значении слов, чтобы говорить на одном языке. Понимать друг друга. А я хочу́ тебя понимать. Разве это странно?
— Ждешь, что я как-то определю происходящее? Что что-то тебе пообещаю?
— А ты можешь?
— Нет… Не сейчас.
— Понятно… А я вот влюблена в тебя. По уши. Знаешь? И… мне будет больно тебя делить. Больно не понимать. Больно не получать в свою сторону хоть толики взаимности.
— И что предлагаешь?
— Давай… Тогда договоримся на берегу: мы попробовали, успели друг ко другу прикипеть, но не сложилось. Так бывает же, да? Не подошли друг другу, не вышло…
— Думаешь?
— Угу. Это же… должно когда-то пройти? Через пару месяцев, может? Как раз успею довести шесть сессий.
— Всего шесть? Сегодня, выходит, экватор?
— А что? Так не терпится задницу под шлепалку подставить, или что?
— Какие-то странные у тебя представления об экваторе. Когда я́ плавал в Австралию, при пересечении нулевой параллели все просто собирались на палубе, трещали свистульками, чокались и целовались.
— М… Зачем ты мне это говоришь? Знаешь же, как мне больно. Мне твои поцелуи нравились.
— Очень смешно, Одри.
— Думаешь, я шучу?
— А разве нет?
И Одри вдруг прильнула к его губам. Медленно, чувственно. Совершенно не так, как целовались в голивудских фильмах или порнушке: никакой страсти. Нежно, аккуратно: словно ребенок, затеявший лизнуть на морозе качели: просто коснулась его губ, ничего больше. Таких… Обычных, человеческих. Теплых, немного потресканных: не призрак и не ледышка. Постоянно он так далеко, эмоционально недоступен, но губы — его губы здесь, касаются ее. И отчего-то даже не спешат отстраняться. Они двигались — неуклюже, повторяя движения — но все же двигались! — в преднамеренной, почти нежной ласке, будто он отсекал вкус и ощущения, фиксируя в памяти каждую черточку.
Сердце Одри зашлось аритмией: ее вечный хитровыебанный pas de chat медленно, филиганно и незаметно даже для нее самой превращался в pas de dеux: да, между до абсурдного неловкими движениями Малека и ее, ведущими, но все же — pas de deux! Пусть это и всего лишь поцелуй — но хотя бы здесь он не бросил ее одну. Несмотря на неумение и обыкновенно неприсущую себе стеснительность — поддержал. Не сдался, не оттолкнул.
В его дыхании Одри могла чувствовать, каких эмоциональных усилий это стоило Малеку: он вздыхал быстро и рвано, словно боялся задохнуться. Но все же не спасовал — это льстило.
И тогда Одри решила углубить поцелуй: язык вопросительно огладил шов профессоских губ, в немом но невыразимо нежном шепотке вел он переговоры, пока Малек не раздвинул их с мягким, дрожащим вздохом.
С медленной, чувственной тщательностью, принимая приглашение, Одри начала изучать его рот. Язык очерчивал гладкие поверхности, прослеживал контуры зубов, неба, и, непосредственно, языка самого Малека — сначала застывшего. Но, подначиваемый легкими движениями Одри, вскоре принялся и он неаккуратно и беспокойно оживать: не совсем имея представление, что должно делать.
Поцелуй углублялся. Одри старалась — видит Бог! — старалась быть мягкой, учтивой и терпеливой, но с каждой секундой становилась она все притязательней. Имевший место быть разговор не обещал ничего хорошего: они разойдутся, пока не поздно. Пока окончательно не поломали друг друга — стоит прекратить все сейчас! И все же Одри хотелось получить Малека себе хоть где-то: и поцелуй наполнялся жадностью и собственнической гордостью, полностью выводя Малека из дыхания. Отчаянно старалась она заявить права на каждый дюйм его хотя бы рта.
Его рука скользнула вниз к изгибу шеи, пальцы, чуть наклонив голову Одри, сжались под подбородком, удерживая на месте — так принимал он этот алчный поцелуй. Чувствовал, как сбивается и дыхание Одри, слышал тихие, нуждающиеся всхлипы, которые зарождались в глубине ее очаровательного горла, но так и не находили выхода. И вот подушечки профессорских пальцев осторожно прошлись по жесткой шерсти нелепого нагромождения, абсолютно не идущего образу Одри — подаренного шарфа. Коснулись и… прошли мимо. Пусть вызывающей какофонией цветов вещица и акцентировала внимание на горле, приглашала затянуть себя крепче, перекрыть любую возможность вздохнуть — сейчас этого не хотелось. Малеку хотелось продолжить урок, что преподавала Одри.
Сама же Одри и думать забыла о «педагогике» — теперь она жаждала лишь одного — раствориться в последних секундах. Дыхание кончалось, оставалось совсем немного: и с жадностью — как библейская тать — принялась она воровать последние остатки кислорода у Малека. Жалкие мгновения, но ей так нравилось думать об этом поцелуе, как о чем-то сокровенном, прорезающем до самой души, до греховного жадном, может, даже и темном, невысказанном обещании: его губы будут принадлежать ей и только ей… Но так не будет, и Малек сам об этом сказал. Чего не достает Одри, что он надеется отыскать в других?
Дыхание кончается: он отстранился, его губы все еще касались ее, а дыхание — горячее и тяжёлое, и Одри чувствует его на своем распухшем от поцелуя рте. Губы профессора порозовели, припухли и теперь поблескивали от влажности в последних лучиках падающего за облака солнца. И на каждой черте его лица, на стеклянно-ошеломленном взгляде серых глаз, да даже на неестественно румяной коже — на всем остался крохотный отпечаток Одри. Только, надолго ли?
Еще несколько секунд: Солнце окончательно заволочено отторгающими облаками, а окутавшее их наваждение почти сошло. И все, что остается у Одри — клубок воспоминаний и еще шесть сессий, чтобы разлюбить.
***
Может, Давид прав, и ей с Малеком стóит поговорить? Она выскажет все, что успела надумать, расскажет, как чертовски ей больно, как она не спит ночами, сжимаясь в комок, хоть как-то успокаивая сокращение диафрагмы, и ревет. Ревет, думая, что что-то сделала не так. Может, когда она в очередной раз поймает на себе полный безразличия взгляд профессора Синнера и нелепо улыбнется под очередной высмеивающей ее «глупые чувства» шуткой, до нее наконец дойдет: сколько волка не корми, все-равно в лес смотрит. Какой бы нежной, заботливой, внимательной, тактичной и любящей она ни была, как бы ни старалась удивлять — от Малека чувств она не добьется. Потому что это ебаный, блять, Малек Синнер. К собственной истерике (хотя слез и сил переживать уже не осталось), к смехуечкам Малека, к очередному перформансу, к крикам и к полной тишине — ко всему была готова Одри и терпеливо ждала пятницы. Звонить и что-то выяснять не хотелось: тратить крохи психической энергии на обработку его голоса — непозволительная роскошь. Все до последней капли у нее заберет предстоящий диалог — она чувствовала. И — по всем законам КПТ — начинала готовиться. Представляла, как безэмоционально откроет дверь, как Малек поднимется в ее комнату, усядется на кушетку, закинув ногу на ногу и улыбнется — мягко и ласково. Как она любит. Может, повезет, и погода случится безоблачной. Тогда на улыбке заиграют солнечные зайчики зеркала напротив. «Ох, Одри. Как можно думать об улыбке мужика, который на твоих (и не только!) глазах выебал другую?» В общем, Одри покорно ждала пятницы, наивно считая себя готовой к любому фортелю профессора Синнера. Ха-ха, держи карман шире. Ровно в полдень защебетал дверной звонок. Одри чуть повременила: пусть не думает, что она, как собачонка, сидела у двери и ждала его прихода. Отсчитав промежуток, которого хватило бы на спуск со второго этажа, наконец открыла. Открыла и ахуела. Нет, профессор Синнер — человек широких взглядов, но чтоб настолько? Неужели у этого выблядка вместо сердца — ледяная червоточина? Как, как ему подобное в голову… — Пригласишь? — Мария-Елена любопытно блуждала взглядом по внутренностям Астреи: до того, чтобы хоть взглянуть на Одри, она не опустилась. Сюр, полный сюр: Одри залилась истеричным смехом, опираясь на косяк: — Что, теперь консультации нужны не только Малеку, но и его шлюхам? — Одри говорит это буднично, но дрожащий голос выдает глубину обиды и отчаяния. Эти «сессии» — единственное, что их связывало? А теперь он попросил объясниться свою блядь и даже не явился сам? Одри что, не достойна и диалога глаза-в-глаза? — Слушай, я не хочу выяснять отношения… Если вы с ним счастливы, то я не буду… Но Мария-Елена еле сдерживала смех: ее, казалось, правда развеселили слова Одри. — Счасиливы? С Синнером что ли? Это как «живой труп» — оксюморон, — девушка чуть осеклась, изучая лицо Одри. Поняв, что ответа не дождется, Мария-Елена продолжила: — Зато я́ отношения выяснить хочу. Ну давай, не будь букой! Угости меня чаем или чем покрепче. Уверенная рука схватила Одри за локоть и утянула внутрь. И почему даже его шлюхи вытирают об Одри ноги? — Если ты сейчас же не выметешься отсюда, я позову ребят. — Слушай… Для меня это — нихуя не просто, непростой разговор, ладно? Просто выслушай, а потом делай, что заблагорассудится. Не говори «нет» не попробовав, а? Я закурю? — за чисто формальным вопросом последовал щелчок зажигалки. Коридор заволокло приятно пахнущим дымом. Одри поломалась окончательно, мертвенно осев подле плинтуса. — Почему сам не пришел? — Потому что считает глупым оправдываться. — Мм. — Одри, — Мария-Елена затушила сигарету, вдавив в стену почти всей недогоревшей длиной, и помогла Одри подняться, — Вставай. Не было никакой измены, слышишь? Это все… если хочешь — расскажу, как вышло, но только вставай. Эй, матрос, выше нос! Ну поднимайся же, ну! Одри одернула руки: ей мерзко. Почему ей указывает блядь, которую трахал ее… мм… ее кто? Коллега? Профессор? Ебырь? — Если пришла вешать мне лапшу на уши, то съебывай — свободного места не осталось. Там уже Мáлека лапша висит. — Господи, Одри! Будь рациональна! Я не поп в церкви, «веровать» не заставлю. Расскажу, как было, дальше — сама решишь. Но — я клянусь! — голос Марии-Елены резко порвался. Из эмоциональной бурной горной реки он мгновением перевалился в едва уловимый — в час по чайной ложке — ключ. — Я клянусь, Одри. Ничего не было. Я… Не знаю, что говорил тебе он: но Малек как-то поспорил на меня. На секс со мной — это было давно, очень. Но… Не зажило до сих пор. Я… хотела сделать ему больно. Ему́ — не тебе. Посмотри на меня, Одри! — дама наконец справилась с тем, чтобы поднять собеседницу с пола, и теперь аккуратно позволяла вести их «дуэт» в гостиную. — Посмотри на меня! Непропорциональное лицо, большой нос, бровь рассечена — в детстве пизданулась о поребрик. Эх, вот бы быть такой же миленькой, как ты! Я честно говорю! Мне твое личико нравится очень, и я понимаю Малека. Такое лицо — редко встретишь, не всем так везет. Мне не повезло. Внимания — хуй, особенно мужского — раньше так было. И вот мне восемнадцать, второй курс медицинского. И на меня впервые посмотрел мальчик, да еще какой. Что в голове у твоего Синнера — никто не ебал никогда. Но мне хотелось верить, что я ему нравлюсь. А морг… Ну назначил свидание в морге — почему нет. Я тогда подумала, что не в положении отказываться: какая-нибудь модель с обложки может высказать свое «фи», но не я. Красивый мальчик, слова говорит приятные. До того, как позвать меня ебаться в труповальник, он со мной всего пару раз болтал. Домашку спрашивал, еще что — не помню. Но помню: как готова была на любой вздор и глупость, лишь бы это внимание не потерять. Хоть в морге поебаться, хоть на кладбище, хоть у декана на столе — все равно. Малек умеет цеплять, да? Всегда умел. Цеплять — умеет, а кончать… — Мария-Елена хотела засмеяться, но внезапно нарвалась на холодный взгляд Одри. Разговаривать с призраками прошлого человека, в которого влюблен — непросто. И Мария-Елена тактично затихла. Хотя едва ли кто мог произнести слова «такт» и «Мария-Елена» в одном предложении. Повисла тишина. Не тошнотворная и липкая, не неловкая. Необходимая. — Куришь? — Нет. — Начнешь, если не разбежишься со своим Синнером. — Разбегусь еще, не волнуйся. Это ты — та, кто прибежал ко мне его оправдывать. Зачем? Зачем тебе? Чего добиваешься? Мария-Елена поднялась с тахты, чиркнула бензиновой зажигалкой: пламя несколько секунд металось у сопельки, наконец подожгло сигарету и было отправлено на покой. Из плотно накрашенных губ вырвался густой клуб дыма: — Мне стыдно. Тогда, в морге я сидела на кушетке с задранной юбкой и плакала. Не понимала — неужели настолько плохая, неправильная или некрасивая, что мужик даже кончить не может. И мне так больно — хоть волком вой. Парадоксально, но на вывод «проблема в Синнере» потребовалось изрядное количество времени. Да и по сейчас я не всегда в это верю. Мне… мне не хотелось, чтобы ты думала, что показанная на экране ебля — результат того, что Малек не отыскал чего-то в тебé. Такого не было. Я… Я хотела его заставить прочувствовать: каково это, бояться лишиться чьего-то внимания. Я когда-то боялась лишиться внимания Малека, а он… Когда я встретила вас двоих в ресторане… мне показалось… Не могу описать: но словно ему бы тебя терять не хотелось. Он так забавно злился на мои пассажи в твоем присутствии! Не хотел впутывать. А потом — уже на конференции — узнала про нелепый спор. Опять. Повторный! И сразу все ожило: как хуево мне было, сколько слез пролилось, как весь курс почему-то стал называть Синнеровской шлюшкой. Разве это честно? Мы же вместе ебались: так почему не он — мой жиголенок? Но Малек отказался спорить. Честно. Перевел все в шутку, соскочил с разговора со своим приятелем. И этот его приятель тогда пошел ко мне — предложил «разыграть» уже самого Малека: я — отомстила бы за «тогда»: мне хотелось, чтобы он трясся и переживал: «вот бы Одри не узнала!», дружок — получил бы ахуевшую реакцию моего нонешнего ебыря — у них там какие-то контры. А Малек бы вернулся на конференцию повторной знаменитостью. Злость Одри постепенно начала стихать — переменялась сомнениями. Верить Марии-Елене чертовски хотелось, но… — Где тогда был сам Малек, во время… — О, тебе это понравится! Дружок под каким-то предлогом попросил у Синнера телефон и в контактах заменил твой номер. Одри, я клянусь: когда меня в прямом эфире трахал «Малек» — а на деле, его дружочек, очень милый кстати! — сам Малек уехал с конференции ради «срочной встречи с тобой». Между вами такие забавные смс-ки… Думала, придется сложней: стараться подделать стиль письма — детективный роман!.. Но вся ваша переписка: адреса и времена. Просто погляди на него: он не достоин рядом с собой такой, как ты, Одри! Вместо сердечек перед сном и теплых слов — сухое «там-то тогда-то» дай бог раз в неделю! Малек — из тех, кто воюет за мир и трахается за девственность. Он не въебывает, как беречь свое, как понять, что желаемое — перед тобой. Тебе всегда рядом с ним будет хуево… Но пускай уж, если и так, то не по моей вине. Он тебе не изменял. По крайней мере, не тогда. Ярость от вида «Синнеровской шлюшки», обида на Малека, непонимание, боль — все смешалось в
