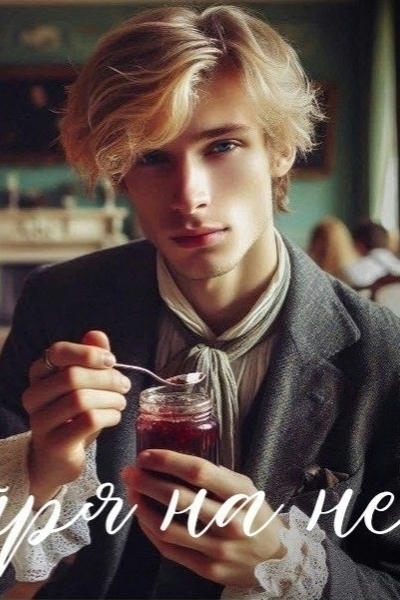
Пэйринг и персонажи
Метки
Драма
Романтика
Ангст
Заболевания
Алкоголь
Серая мораль
Эстетика
Дети
Отношения втайне
Курение
Смерть второстепенных персонажей
Неравные отношения
Разница в возрасте
Смерть основных персонажей
Кризис ориентации
Первый раз
Признания в любви
Разговоры
Психические расстройства
Психологические травмы
Любовь с первого взгляда
Аристократия
Обман / Заблуждение
Элементы гета
Аддикции
Трудные отношения с родителями
XIX век
Историческое допущение
Разница культур
Российская империя
Борьба за отношения
Воссоединение
Горе / Утрата
Запретные отношения
Социальные темы и мотивы
Верность
Намеки на секс
Художники
Проблемы с законом
Актеры
Иерархический строй
Элементы пурпурной прозы
Бедность
Высшее общество
Роковая женщина / Роковой мужчина
Нарциссизм
Хобби
Письма
Лебединая верность
Описание
– Я не знаю человека чище Германа. Он как живая рана, мальчик без кожи, ничуть непохожий на других. Он нуждается в защите, я стараюсь его защищать. Но часто мне кажется, что я делаю недостаточно… Ему важно ощущать себя потерянным ребёнком, которого наконец-то нашли и снова обняли, его душа – словно фарфор, который может треснуть от малейшего удара. Этот груз ответственности довольно нелегок, но я уже не боюсь сломаться под его тяжестью. Что бы ни случилось, я останусь со своим трудным счастьем.
Примечания
Произведение не претендует на историческую достоверность.
Глава Седьмая.
06 июня 2024, 08:57
Как мало прожито, как много пережито. Семён Яковлевич Надсон.
«…Я люблю тебя так, как никогда никого не любил; и так, как тебя, наверное, более не полюбит ни один человек на свете. У меня к тебе совершеннейшая, отдельная любовь. Моё горло словно всё время сжато ледяными пальцами. Я часто оттягиваю ворот кофты и не застёгиваю верхней пуговицы пиджака. Герман, Гермуся! Жизнь без тебя потеряла всякие краски. Я существую очень тихо, праздников не провожу, гостей не собираю. Воспитываю Киру, читаю, курю, думаю. На каждую вещь, к которой ты здесь прикасался, смотрю с нежностью, думая: «около этого зеркала Герман расчесывал волосы», «на этом стуле Герман сидел», «этим полотенцем Герман утирал лицо». Шкатулка с твоими письмами стоит на моей прикроватной тумбочке. Я смотрю на неё, когда засыпаю, и когда просыпаюсь, и мне становится легче. Но как же ужасно представлять, что ты с каждым днём всё дальше уходишь от меня и, возможно, вскоре я буду забыт совсем. Ох, как я завидую тем, кто сейчас рядом с тобой! И какая нега переполняет меня от осознания, что мы всё ещё ходим под одним небом и дышим одним воздухом». Герман отложил в сторону одно письмо и принялся перечитывать другое. «Мальчик мой, лучик! Жить, так мы жили раньше, — нельзя, недопустимо. Жить нужно вместе; творить, засыпать, просыпаться, путешествовать, наблюдать за происходящим вокруг — только вместе. Я уже готовлю комнату к твоему возвращению. Она будет очень красивой, просторной, светлой и тёплой…» — Ты чего тут сидишь? — вдруг прозвучало рядом. Герман вздрогнул и, так и не поднявшись на ноги, отполз в сторону, как побитый пёс. Его сознание было изувечено страхом и волнением, и единственная цепочка, которая ещё могла сложиться в чугунной от дум голове, это: «кто-то рядом = опасность = нужно защищаться». — Миша? А ты со мной разговариваешь? — А с чего бы мне с тобой не разговаривать? — Другие делают вид, что меня не существует. — Я же не стадо. Небо сегодня было затянуто плотными серыми тучами, ничего вокруг не отбрасывало теней. Воздух, как обычно, был холодным и влажным. Герман вспомнил, как описывалась сибирская природа в книгах, которые ему читал Кирилл, и подивился фантазии писателей. Где они видели свои широкие долины, чистейшие реки и озёра, богатые листвой деревья и горизонт в золотистых тонах? Не исключено, что они, как и он, любили прикладываться к стакану, а в хмельном угаре и собачьи какашки возможно принять за шоколадные конфеты. — Миш, можно спросить? Как мне на всё это реагировать? — А ты сам как думаешь? — Я так загнан жизнью и людьми, что уже ничего не думаю. — Да никак не реагируй. — Я и так молчу. Но становится только хуже. — На твоём месте я бы постарался перевести всё в шутку. Герман засмеялся. Уже в первом письме было чёрным по белому написано: «даже если бы я находился на смертном одре, мне был бы нужен только ты» и «я завидую этим строкам, потому что они увидят тебя раньше, чем я». Чего уж здесь шуточного! — А ты, получается, нормально ко мне относишься? — Честно? Да мне плевать, кто под кем. Главное, ко мне не приставай, а то в лоб получишь. — Дурак ты, Миша! — Зато ты — очень умный! Такие вещи под матрасом хранил! Да я бы на твоём месте глаз с этих писем не спускал, везде бы носил их с собой, под фуфайку бы зашил! Ладно, пойдём. Хватит сидеть на сырой земле, ты и так вечно простужен. Герман помотал головой. Ему не хотелось возвращаться в избу. Он то гордился — как-то совсем по-детски, сердцещипательно: вот, дескать, здесь все испорченные, ничего не знающие о настоящих чувствах, а он — не такой. Ему знакома истинная любовь; и это прекрасно, непередаваемо! То вдруг его захлёстывали отчаяние и жалость к себе, к Кириллу, к ним обоим, и слёзы текли из его некогда чистых, наполненных любопытством к миру, а ныне — потухших и болезненных глаз. — Меня и раньше все недолюбливали, а сейчас совсем сожрут. — Посмотри на это с другой стороны: у тебя появился шанс почувствовать себя личностью. Это — очень здорово. Хватит прятаться за чужие спины. Вот я сделал себя сам. У меня нет больших денег, стальных мускулов или влиятельных знакомых, но меня все уважают. Я правильно себя поставил, показал, что я никого не страшусь. Понимаешь? И теперь я могу делать что хочу. К слову, глянь, я ещё одну сумку с вещами у одного недавно прибывшего олуха утащил. Герман проглотил горьковатую от табака и самогона слюну. Он нутром чуял, что проделки его товарища рано или поздно обернутся трагедией. По характеру Миша был похож на Витю, вот только если у второго были связи, публичность и куча должников, то у первого не было никого и ничего. Герман не боялся за Семёнова, потому что знал, что любое происшествие с ним вызовет бучу в обществе, а вот страх за Мишу выжигал его душу, как спичка — пергамент. — Миш, послушай меня, пожалуйста. Ребята терпят твои проделки не из-за уважения и страха. Они просто не хотят наживать проблем и увеличивать себе сроки ссылки. Им проще смириться с пропажей штанов или кружки, чем устраивать скандал, драться и жаловаться на тебя кому-то из вышестоящих — за последнее свои же могут засмеять, ябедников нигде не любят. Но однажды их терпению настанет конец. Ты наглеешь не по дням, а по часам! Стыд у тебя под каблуком, а совесть под подошвой! Я тебя очень прошу, одумайся! Ты хочешь, чтобы тебе порвали лицо? Хочешь вернуться домой калекой? — Не обманешь — не проживёшь, — беспечно отмахнулся Миша. — Я большую половину своей жизни довольствовался малым! И мне это надоело хуже горькой редки. Лишь в последние два года мы с Тимошкой смогли подняться, но нам тут же обломали только начавшие отрастать крылья! Привезли в этот гадюшник, как скот на убой! Но мы, в отличие от тебя, не сломались, — парень горделиво улыбнулся. — Мы делаем всё возможное, чтобы нам жилось лучше. И это правильно. — «Паскудно, но правильно», — вспомнились Герману собственные слова. — Родственников у нас нет, помощи ждать неоткуда. Значит, нужно вертеться самостоятельно. И впредь не начинай со мной подобных разговоров, если не хочешь поссориться. Ишь, правильный нашёлся! Я же не тебя обворовываю. Хотя мог бы, если бы захотел. Куртка твоя мне нравится. — Куртка? Да забирай! — Да не надо! В чём ты сам-то потом ходить будешь? У меня сегодня и так новый улов! — и Миша засунул нос в принесённую с собой сумку. — Вот это что? Жилетка! Гляди-ка! А это, значит, брюки. Дорого выглядят. Интересно, откуда этот пентюх их взял? Постель, что ли, какому-нибудь буржую у себя на родине грел? — Ну зачем ты так… — Ой, ну может, не буржую! Может, обеспеченной вдовушке! Так, что там дальше… Нательное бельё, носки, мыло. И это всё? Тьфу! Ладно, хоть жилетка хорошая. Вот сейчас приоденусь, глядишь, и бабу себе найду. А то хожу неприкаянный. Показать-то мне есть что, но некому. Герман неожиданно для себя широко улыбнулся. — Смешно тебе, — не изменился в лице Миша. — А мне вот не до смеха. К тебе красавица Юля клинья подбивала, а ко мне — только Таня из соседнего поселения. — А ты что? — Геша, ты её видел? Она как скала! Повернулась к солнцу задом — солнца не видать! И что мне с ней делать? Нет, я ещё не настолько отчаялся! После всё потянулось своим чередом. Вот только Герману стало жить ещё сложнее. Он, как и все, вставал в пять утра и ложился в одиннадцать вечера, пил самогон, обрабатывал землю, убирал оттаявший по весне мусор, подвязывал деревья, стоял, облокотившись о лопату и глядя ввысь, как тонкий лирик, смеялся над чужими пошлыми шутками и ел несладкую кашу, но одновременно со всем этим ему приходилось терпеть множественные нападки и насмешки, которые уже не ограничивались тычками в бок, затрещинами и «ты, блаженный, живи просто и честно, а тайно ничего не пиши и не думай!» Однажды у него забрали кипу заветных писем и неизвестно, чем бы это обернулось, если бы не Миша. Ловкому бывшему попрошайке удалось отнять послания, спрятать их за пазуху, а потом подозвать остальных: «Идите сюда, сейчас читать будем». Но едва его обступили плотным кольцом, как он похлопал себя по карманам и воскликнул: «Я их потерял! Пойдёмте, поищем!» Когда на него со всех сторон посыпались проклятия, угрозы и указания, где ему, растяпе, место, он выбежал из толпы и скрылся в неизвестном направлении. Миша никогда не считал себя альтруистом — боже упаси! Но Герману он был готов помогать просто потому, что тот нравился ему как человек и друг. Единственное, что его раздражало в Квятковском, так это излишняя (как казалось Мише) настороженность оного. Герман постоянно ждал от жизни плохого. А ведь именно к таким людям плохое и притягивалось. В другой раз Герман проснулся оттого, что с него стягивал одеяло один из местных мужиков. На вопрос «что ты творишь?» тот ответил: «тобой любуюсь». Герман подскочил и вскрикнул, остальные обитатели избы зажгли керосиновые лампы, осмотрелись вокруг и, угадав причину переполоха, принялись громко смеяться. Герман не верил, что над ним бы совершили насилие при свидетелях — скорее всего, это была заранее спланированная шутка; но, господи, как же всё это было мерзко! Квятковский был почти уверен, что если бы он от скуки закрутил ничего не значащую интрижку с каким-нибудь здешним обормотом, пытаясь всё скрыть и не отказывая другим, на это бы никто не обратил внимания: ну, посмеялись бы, покачали головами и забыли. Но Герман держался так гордо и отстранённо, ничего не боясь, не утаивая и не отшучиваясь, что всех это злило до белых глаз. Люди видели в его поведении вызов, сравнимый с пощечиной обществу, и это было непонятно и неправильно. В глазах Германа не плавало ни толики раскаяния, ни крупицы стыда. Так явны и искренни были его сумасшедшие чувства, так исступлённо горел он дьявольским полымем, изнывая, худея и чернея лицом, что со временем некоторые впечатлительные ссыльные даже стали его бояться. Ефим пробовал замахиваться на Германа, но тот всякий раз вставал прямо перед ним и выдавал: — Бей. — Ты что, больной? — злился мужик. — Не буду таиться! Грех на мне! Бей! — и взгляд Квятковского был холодным, полумёртвым, страшным. — Да иди ты! По истечению двух лет угрозы и издевательства почти прекратились. К Герману привыкли, как и к тому, что он всё ещё каждый вечер «писал и перечитывал свои цедулки». «Кирилл, ты — везде. Ты — это всё: солнце, воздух, вода, сердцебиение, жизнь, прошлое, настоящее, будущее. Я постоянно вижу тебя во снах и мечтаю о тебе наяву. Я рисую тебя, вспоминаю, воспеваю. Под моей подушкой лежит твой портрет, под матрасом — твои письма, а в кармане — подаренное тобою кольцо. Ах, Кирюша! Как низки здешние люди! Все лицемерят и злятся, я один так не могу. Ладно, это всё — сущие пустяки! Мне важно знать одно: что ты есть, и что ты меня помнишь». «…Намедни в мою бестолковую голову пришла мыслишка: вот бы сшить одеяло из всех наших писем и укрываться им в холодные ночи. Да, бумага тонка, но написанные на ней слова, уверен, смогли бы спасти меня не только от сквозняков, но и от чужого презрения, безнадёги и страха перед будущим; такого большого страха, что иногда я не в силах выносить его, стоя на ногах, меня тянет к земле, на колени. Получив от тебя письмо, я сначала обнимаю его и только потом— читаю. Удивительное дело: трещинки на моих руках (которым ты когда-то хотел дать имена, как астроном — новым небесным светилам) почти затянулись, хотя я много работаю. Думаю, их залечили твои слова. В начале зимы я обнаружил у себя на груди новую маленькую родинку. Это так необычно! Если точнее, она находится рядом с сердцем. Может, это знак? Может, эта родинка— твое «люблю», навечно отпечатавшееся на моей коже?» Теперь Германа попросту игнорировали. Его не приглашали играть в карты, с ним не разговаривали без особой необходимости. Лишь Тимошка и Миша по-прежнему относились к нему лояльно. Впрочем, Германа уже не столь сильно пугало одиночество. Правду говорят, что человек способен привыкнуть ко всему на свете. *** «Гермуся, если я скажу, что проведённое с тобою время стало для меня хорошим воспоминанием, я совру, ибо это время стало для меня всем. Напиши честно — тебе не проще иногда живётся без меня? Ты не бываешь доволен тем, что тебя более никто не поучает? Люблю тебя, родной мой лучик. Всего целую. Ты мой? Тебе больше никто не нужен? Я по-прежнему принадлежу тебе телом и душой. Кира подросла. Невысокая, худая, узкоплечая голубоглазка, моя отрада. Я смотрю на неё, но вижу тебя. Иногда мне даже страшно от этого. Вы многом ты бы понял её лучше, чем я. Она любит гостей, животных и книги. Пишет странные, но прекраснейшие картины, поёт весёлые песни, приятно поражает мою прислугу, но сама не любит, когда её хвалят. Тебя она помнит и любит. Я не даю ей забыть. Меня по-прежнему называет принцем или дядей Кирюсей…» За дверью кабинета раздался грохот, и Кирилл отвлёкся от письма. В его голове вспыхнуло одно-единственное имечко: Кира! Что она там уронила и не расшиблась ли сама? Лаврентьев вышел в коридор. Там всё оказалось спокойно. А вот из столовой доносились звуки переполоха. — Кира, что ты там делаешь? — выкрикнул Кирилл. Когда он появился на пороге, то увидел, как Кира носится из угла в угол, пытаясь поймать летающего над потолком голубя. — Боже мой! — поразился Кирилл. — Откуда здесь птица? — Закрой дверь! Быстрее! — завизжала Кира. Кирилл послушался. Кира залезла на стул, изловчилась, и через миг голубь оказался у неё в руках. Она прижала его к себе — крепко, но бережно, стараясь не повредить крылья. — Кирочка, что здесь происходит? — спросил Кирилл, постаравшись, чтобы его голос прозвучал строго. Он ещё злился на Киру за её последнюю выходку. Надо же, до чего додумалась! Дождалась, когда к нему в кои-то веки (впервые за полгода) пришли гости, связала между собой их оставленные на вешалке шарфы так, что те стали похожи на одного большого удава, и приклеила к полу их ботинки. Но никто из визитёров не осерчал на проказницу. Кирочка уж слишком очаровательно выглядела и слишком невинно хлопала своими голубыми глазёнками. А вот Кирилл не разговаривал со своей подопечной целых два дня. Для Киры это было даже страшнее угла или работы по дому! К вечеру второго дня она сама подошла к Кириллу и взмолилась: «Давай помиримся, принц? Хочешь, я сама встану в угол?» — Отпусти птичку, ей страшно, — сказал Лаврентьев. — Я сейчас буду её кормить, — ответила Кира и указала на тарелку с гречкой на столе. — Кира, кормить голубей нужно по-другому. Мы с тобой уже делали это на улице. Забыла? — Не забыла. Но ты говорил, что на обед нужно есть гречку с курицей, — начала рассказывать Кирочка. Её речь была совсем разборчивой, даже грамотной — девочка сильно опережала своих сверстников в развитии. — А у нас нет курицы. Я подумала, что другая птичка тоже подойдёт. — Гречку с курицей? Кира, я имел в виду блюдо! А не… — Кирилл не договорил и рассмеялся. Кира уже гораздо сдержаннее вела себя на людях и гораздо аккуратнее ела, знала буквы, умела решать примеры на сложение и вычитание в пределах цифры десять, рассказывала стихи наизусть, подбирала антонимы и синонимы к словам, ярко описывала произошедшие недавно события. Чтобы стимулировать развитие речи Киры, Кирилл приглашал учителей, а временами сам разучивал со своей названной дочерью стихи и песни, читал ей сказки и придумывал загадки. Вскоре малышка почти перестала шепелявить и научилась выговаривать букву «р». Уроки математики Кирилл превращал в весёлую игру. На прогулках он постоянно просил Киру считать ступеньки, дома, прохожих, собак и птиц. Он ежедневно слышал сотни вопросов вроде «а камни вкусные?», «а воробьи — это дети голубей?», «а почему облако нельзя поймать?», но оставался терпеливым и мудрым, с удовольствием всё объяснял. По крайней мере, но всё это было ответить проще, чем на «а что монахи носят под своими балахонами?», «а почему при поцелуе носы не мешают?», «а почему у людей с утра иногда глаза красные?» — именно об этом у него спрашивал Герман. (На последний вопрос Кирилл ответил: «потому что им по нужде хочется», а Герман после расхохотался до колотья в боку). Кирилла смутили лишь два вопроса Киры: «если детей рожают мамы, зачем нужны папы?» и «а почему у меня мамы нет?» Кирилл не хотел врать. Он видел, что Кира слишком умна для небылиц, а-ля «твоя мама была феей, ей нельзя было долго находиться среди людей, и она вернулась в свой мир» или «твоя мама работает очень далеко отсюда и не может тебя навестить», поэтому объяснил всё суховато и правдиво: — Я не знаю, где сейчас твоя мама. Они с твоим отцом расстались, потому что не смогли быть счастливы друг с другом. Мама не навещает тебя, потому что не хочет. А Света один раз всё-таки попробовала напомнить о себе. Она пришла в общежитие и даже сразу нашла нужную комнату, но там уже не оказалось ни Германа, ни их дочери. Соседи рассказали, что Германа арестовали за кражу, а девочку забрал себе то ли его родственник, то ли друг. Света внутренне восторжествовала: — «Так и знала, что этот слабый духом алкоголик закончит свой путь в тюрьме! Какой дурой я была, когда связалась с ним! Дочь, конечно, жалко. Она не виновата в ошибках своих родителей. Я хотела с ней встретиться, посмотреть, как она подросла, сделать ей подарок. Но если всё так сложилось… Возможно, это к лучшему. Не нужно мне на неё смотреть, а то ещё материнские чувства проснутся, не дай бог. Родная кровь — не водица. А из девочки всё равно не выйдет ничего хорошего. Рано или поздно в ней проявятся черты Германа: начнёт либо пить, либо воображать себя королевой». С тех пор Света о дочери не вспоминала. А в Кире действительно было очень много всего от Германа: в ней удивительным образом сочетались любознательность, трудолюбие, доброта, непоседливость, гордость и любовь спорить и доказывать свою правоту. Последнее качество особенно веселило Кирилла. — Кошки лучше собак, — заявляла Кира. — Ничего подобного, — возражал Кирилл. — Собаки лучше. Они помогают пасти стада, умеют охотиться и охранять территорию. — А кошки зато мышей ловят! — А собак можно обучать разным командам. — Кошек тоже можно! — Нет. Они слишком независимые и упрямые — прямо как ты! — Нет, можно! Только какой дурак будет обучать кошку? — искренне возмущалась Кира. — Они для любви, а не для команд! А собаки даже мурчать не умеют! — Умеют. Просто их об этом никто не просит. — А вот и нет! — А вот и да! — А кошки красивее! И шерсть у них мягче! — А знаешь, ты права. Кошки действительно красивее: они такие грациозные, изысканные. — Ну и что? — пожимала плечами Кира. Принц с ней согласился?! Ну уж нет! Так неинтересно! — Зато у собак языки и лапы больше. — А кошки зато мурчать умеют! — Собаки тоже умеют, ты сам сказал. — А я соврал. — Нет, ты никогда не врёшь! Пересиливая себя и свою недавно появившуюся замкнутость, Кирилл посещал с Кирочкой музеи, выставки и концертные залы. Кире нравилось бродить среди предметов старины, скульптур и картин, рассматривать пейзажи, натюрморты, наряды и драгоценности прошлых столетий, а ещё черпать из этого идеи для собственного творчества, а вот на концертах она, как ни старалась, часто засыпала. Но ещё больше ей нравилось по приходу домой обсуждать с принцем всё увиденное. — Ой, какая там лестница была! — задыхалась от восторга девочка. — Широкая, красивая! А ковёр! Мне было стыдно ходить по нему в туфлях! По такому ковру нужно ходить только босиком! А какие у нас были хорошие места! Какие мягкие кресла! — Тебе точно всё понравилось? — уточнял Кирилл. — Да. Только не понравилось, что мимо нас все проходили — ну, когда искали свои места! Некоторые извинялись, а некоторые молчали! Вот бессовестные! А один дядька мне на ногу наступил. А я его в ответ кулаком в бок ткнула — будет знать, как наступать! И музыканты очень громко играли, прямо стены тряслись. Я боялась, что у них инструменты сломаются! Я, когда вырасту, тоже буду играть на рояле и скрипке, но потише, чтобы ничего не сломать. — Ты же говорила, что не хочешь заниматься музыкой. — Раньше не хотела, а теперь захотела. Я даже решила, в каком платье проведу свой первый концерт! В красном, волнистом — как шторы в нашей гостиной! И причёска у меня будет как у той тёти, что сегодня сидела в первом ряду слева! И Кирилл решил, что через два года начнёт приглашать для Киры учителя музыки, а ещё будет водить её в балетную школу. И Кира верила, что у неё всё получится. Это как с рисованием: поначалу у тебя и кисти из рук падают, и линии не вырисовываются, и краски на холст не ложатся, но потом тебе открывается целый мир: холодный и тёплый, пёстрый и однородный, вселяющий надежду и заунывно зовущий. И музыка — так же прекрасна. Кира любила рисовать, сидя за маленьким столиком на террасе, и часто звала туда Кирилла. — Я так люблю зелёный цвет, — рассказывала девочка. — Цвет листиков, травы, весны! Цвет жизни! — Как интересно ты рассуждаешь, — подмечал Кирилл. — А как ты можешь описать жёлтый цвет? — Жёлтый — цвет радости. Цвет лета, солнышка, тепла! — А красный? — Ой, он мне не нравится! Он какой-то злой! — Разве? Нет, он только кажется таким, потому что привлекает к себе много внимания. Но на самом деле, это цвет любви и успеха. А во многих верованиях он означает ещё обновление и плодородие. — Ну нет! Цвет любви — розовый! Нежный! — А мне ещё очень нравится чёрный: цвет тайны, мистицизма и творческой интеллигенции. Кира часто импровизировала и рисовала зелёных кошек, синие деревья и оранжевые облака. На добрые подтрунивания Кирилла она отвечала: — Кошка сама сказала мне, что хочет быть зелёной! А птичка сказала, что хочет быть полосатой и в крапинку! — А герои твоих рисунков разговаривают только с тобой? Или со всеми? — Только с теми, кто им нравятся. Портреты Кирилла, что раньше висели в комнате общежития Германа, теперь висели в кабинете у самого Лаврентьева. Тут же, на столе, стояла коробочка с памятными вещами. «Дорогой Гермуся, я замечаю, с каким трепетом прорисована каждая линия моего лица на созданных тобою портретах. Я так хорошо тебя знаю, чувствую, понимаю и принимаю, что могу представить выражение твоего почти детского личика (на которое я, однако, мог напустить дьявольское сладострастие) во время творческого процесса; и то, как твои искусные, словно поцелованные богом руки держали заострённый и крючковатый, будто палец старой ведьмы, карандаш. Необыкновенный Герман, грех мой, жизнь моя, ты действительно так сильно меня любишь? Если да, я преклоняюсь пред тобой. Если нет, лучше бы я никогда не рождался. Ты— это всё, что у меня за душою. Не болей. Пиши. Люблю тебя, милый и тёплый лучик.Вечно твой Кирилл».
*** Через два с половиной года после начала ссылки Герман совсем сдружился с Мишей. Тимоша, в отличие от своего старшего брата, обладал более независимым характером и дружеских отношений ни с кем не заводил, только приятельские. А Миша и Герман вместе работали, вместе гуляли, вместе ели, вместе курили и даже одеваться предпочитали одинаково. Они стали двумя несовместимыми совместимостями. Миша лез на рожон — Герман сглаживал конфликт. Герман не мог защитить себя в словесной перебранке — Миша приходил ему на помощь и всем затыкал рты. Миша воровал — Герман стоял на стреме. Герман напивался до бессознательного состояния — Миша помогал ему раздеться, умыться и повалиться на кровать. Ребята неоднократно слышали от других ссыльных язвительные и пошлые реплики о своей дружбе, но научились на них не реагировать; или, как говорил Герман, «быть выше этого». Да и в глубине души каждый из них понимал, что, скорее всего, связывающая их ниточка оборвётся сразу после того, как закончится ссылка. Подобные отношения — то, что уместно лишь в определённое время и в определённом месте. Как чрезмерно яркие, причудливые штаны: их здорово надеть по особому случаю, покрасоваться, посмеяться, а потом навечно закинуть на дальнюю полку, ибо носить их в повседневной жизни — неуместно и попросту ненужно. Смотря на Мишу, Герман осознавал, что они с ним всё ещё являлись совершенно разными людьми; разными по характерам, интересам и ценностям. И когда всё это канет в лету, когда у них не будет общих обязанностей и неприятелей, им станет совершенно не о чем разговаривать. Но именно на данном этапе Квятковский очень ценил Мишу и любил проводить с ним время. За недружелюбным внешним видом и крутым нравом бывшего примостовника скрывалось доброе и чуткое сердце. Это было особенно заметно в те моменты, когда Миша делился с ним, Германом, пирожками и помогал ему прятать письма. Вот Витя бы так не делал! У Миши были большие планы на дальнейшую жизнь. Он часто говорил, что, вернувшись в Москву, первым делом наймётся на работу — даже спрашивал у Германа, тяжело ли трудиться на рынке и сколько там платят, — а потом найдёт красавицу-жену и отстроит собственный дом. Герман улыбался в ответ. Ему так нравились эти чужие милые мечты! Сам он ничего не планировал и не знал, кроме того, что он — отщепенец. Это слово будто было написано на каждом миллиметре его кожи и пустило корни глубоко в душу. С каким лицом он вернётся к Кириллу? С лицом, на котором посторонние пьяные дыхания и злобные взгляды выжгли тавро: алкоголик, дикарь и урод? Это будет везде видеться и чувствоваться. Но самое ужасное заключалось в том, что Герман с этим свыкся. Он не верил, что сможет начать новую жизнь, стать приличным супругом для Кирилла и примерным отцом для Киры. Ему не хотелось тихой семейной пристани, ибо в ней не будет пьянок, мусора и гвалта — всего того, без чего Герман уже не смыслил самого себя. Сегодня они с Мишей сидели под деревом и вели беседу. — Геша, хочешь в карты поиграть? — предложил последний. — Нет. — А может, будем рассказывать друг другу страшные истории? — Не хочется. — Тогда давай выпьем травяного чаю с вареньем? — Тоже не хочется. Миша не на шутку испугался. — Геша, ты заболел? — Не заболел. Мне просто очень грустно. — Отчего же? Посмотри, какая вокруг благодать! Лето, тепло, птицы поют! Пойдём, побродим? — Да не хочу я бродить! А грустно мне из-за собственного будущего, — признался Герман. — С каких пор? Это мне уместно грустить. Я не знаю, куда и к кому подамся, когда закончится ссылка. А у тебя всё схвачено: вернёшься к своему возлюбленному, и будете жить-поживать да добра наживать. — Миш, я не думаю, что смогу к нему вернуться. Герман замолчал. Он знал, что Миша его не поймёт. Да и никто, наверное, не поймёт. — Вы умудрились поссориться по переписке? — усмехнулся Миша и принялся разглядывать «линию жизни» на своей правой ладони с таким видом, будто для него на всём белом свете не существовало ничего интереснее. — Или чувства остыли? — Нет, мы не ссорились и по-прежнему любим друг друга. Просто… Я не знаю, как тебе объяснить. — Объясни как есть. — Ешь ртом, — съязвил Квятковский, но через секунду ему вновь стало не до смеха. — Я для него слишком испорченный. Судя по его письмам, он стал совсем зрелым и серьёзным мужчиной. Он в одиночку растит мою дочь, ведёт быт, посещает выставки, концертные залы и прочие культурные места. И зачем ему я, уродливый, обездоленный и падший духом? Что я смогу ему дать? Как посмею влезть в его налаженную и спокойную жизнь своими грязными сапогами? Я весь больной и проспиртованный, во мне не осталось ни одной здоровой косточки. У меня что ни слово — то похабное! Это ужас! — А почему ты решаешь за него? Может, он сам разберётся, нужен ты ему или нет? — Возможно, пару месяцев мы проживём в любви и согласии, — заполошно продолжил Герман, — но потом надо мной возьмёт верх тяга к неправильному образу жизни. Я не хочу, чтобы он выискивал меня по пьяным притонам, относил на руках домой, а потом оттирал мою рвоту от пола. Он не заслуживает этого кошмара! Наша любовь — это что-то далёкое, смутное и полузабытое. Иногда мне кажется, что всё это происходило не со мной, а с кем-то другим, а я просто наблюдал со стороны. Когда я пишу очередное письмо, в моей голове то и дело вспыхивает: «Кому я пишу? Ему? А он — не миф?» Уж сколько лет я мыкался по свету, мечтая об одном, — проснуться с ним утром, снова почувствовать себя нужным, но мечта разбивалась о суровую реальность. Может, если не получается, стоит принять это с достоинством, а не толочь воду в ступе? — Ты прав, — вдруг неожиданно легко согласился Миша. — Нет так нет. Если не срастается, значит, и не нужно. К тебе идеально подходят пословицы «простота хуже воровства» и «нельзя превратить осла в породистую лошадь». Кирилл однажды дал тебе шанс выбраться из болота, но ты потянул болото за собой. Не порти человеку жизнь. — Но что же мне делать? Где и с кем жить? — Давай куда-нибудь уедем? Например, в Тибет, к французам? — Миш, Тибет в Китае. — Да хоть у козы в ноздре! Там, я слышал, можно попасть в монастырь с хорошими условиями. Будем возделывать сельскохозяйственные угодья — опыт у нас в этом деле теперь ого-го какой, учиться, молиться, что-нибудь переписывать. — А как же твои мечты о жене и собственном доме? — Ну, что мечты… Ты тоже о многом мечтал, а толку? Вдруг у меня ничего не выйдет? — А Тимошка? — А его с собой возьмём. — Неожиданное предложение. Но я обещаю подумать. Тихий щебет птиц в ветвях старого дерева и ласкающий щёки ветер поспособствовали приходу дремоты. Герман не заметил, как провалился в темноту, а проснулся ближе к утру. Рядом никого не было. Он поднялся, отряхнул одежду и направился к реке, чтобы умыться, но был остановлен окриком: — Эй, ты! Подойди сюда! Герман оглянулся и увидел одного из здешних мужиков, имени которого не помнил; а может, и не знал. Проще говоря, этот человек подходил под определение «знаю, но лично не знаком». — Здравствуйте, — откашлялся Герман. — Вы что-то хотели? Было видно, что мужику не терпелось начать серьёзный разговор, но он не мог подобрать уместных слов. — Да. Хотел попросить тебя не быть беспутником. — Что вы имеете в виду? — Не строй из себя дурака! Природа уже всё сделала за тебя! Тебе в свободной жизни приключений не хватило? И здесь решил грязными делишками заняться? — Да какими ещё делишками?! — Хорошо, не буду ходить вокруг да около. Вы с Мишей хоть вместе никому на глаза не попадайтесь. Если уж крутите любовь, то делайте это не так открыто. Люди здесь — тихие сапы. Терпят, пока терпится, но однажды не выдержат и таких тумаков вам надают, что мало не покажется. — Вы соображаете, что несёте?! — крикнул Герман. — Миша — мой друг! — Расскажи ослу, у него уши подлиннее! О твоих предпочтениях здесь всем известно! — Даже если вы узнали больше, чем следовало бы… Даже если мне кто-то пишет письма, это не значит, что… — А почему ты так бурно отреагировал? — нехорошо осклабился мужик. — Успокойся. Если ты ни в чём не виноват, зачем кричать? Или на воре и шапка горит? — Не смейте меня успокаивать! Вы обвинили меня чёрт знает в чём, а я, по-вашему, должен промолчать? Вы глупый? С первого раза моих слов не поняли, нужно повторить?! — Как ты со мной разговариваешь, щенок?! Смелым стал, голос прорезался?! Когда Герман развернулся и пошёл своей дорогой, то услышал вслед: — Ничего не боится, сволочь белобрысая! *** Сидя на земле, Герман отдыхал после очередного трудного дня. Вокруг пахло хвоей, смолой и немного грибами. Трава под ногами имела изумрудный оттенок. По дереву деловито сновала белка, где-то вдалеке пела кукушка, и было так замечательно, что лето вступило в свои права. На руках у Квятковского сидел мышонок — забавный крохотный комочек с серой шёрсткой и чёрными глазками. Герман подносил животинку к своему лицу, любовался ею, как диковинкой, но мышонок совсем не боялся и не спешил убегать. Вдруг Герман насторожился. Со стороны овеянного страшилками о леших и прочих мифических существах леса к нему бежала знакомая фигура. — Тимоша! — помахал рукой Квятковский. — Здравствуй, родной! Куда спешишь? Что-то случилось? — Герман! — надрывно и горько закричал Тимофей. — Помоги! Миша умирает! Герман похолодел от ужаса. В воздухе треснуло стекло и вонзилось в его лёгкие. — Как?! Бежим к нему! Скорее! Ребята быстро пересекли поляну, начали лавировать среди деревьев, перепрыгивать через канавы, кучи мусора и муравейники. В это время Тимошка рассказывал Герману, что на их святую троицу давно точили зубы остальные ссыльные. На него и Мишу — за то, что воровали, а на Германа — за то, что их прикрывал. И если он, Тимоша, с годами становился осторожнее, то Миша, наоборот, наглел. Он уносил чужие сумки буквально из-под носов их владельцев, а на все предостережения лишь отшучивался. Сегодня утром Миша предстал перед компанией своих неприятелей в недавно украденном плаще, а когда владелец этого плаща потребовал свою вещь назад, полез на него с кулаками. Такого нахальства собравшиеся вынести не смогли: они всем скопом набросились на Мишу, сильно его избили, а потом отнесли в лес, дабы позволить ему умереть на открытой местности — запоздалый жест доброй воли, который уже ничего не значил. — Господи! — застонал Герман севшим до шепота голосом. — Вот, он здесь! Квятковский не сразу заметил Мишу — тот лежал под раскидистой сосной, накрытый принесённым Тимошей одеялом, из-под которого виднелась только его голова. — Миша! — позвал Герман. — Ты меня слышишь?! Глаза его друга были закрыты, но слабое дыхание говорило, что тот ещё жив. Герман откинул одеяло, погладил чужие тёмные волосы и вскрикнул — ладонь тут же обагрилась кровью. — Его нужно немедленно показать доктору! Каждая секунда на счету! — Какому доктору? Откуда ему здесь взяться? — В соседнем поселении живёт Егор Трофимов. У него медицинское образование, он держит при себе инструменты, примочки и мази. Первую помощь он точно окажет. Поищи кого-нибудь из надзирателей, расскажи всё, а я отнесу Мишу к Трофимову. — А ты сам справишься? — А у меня есть выбор? Можно было бы, конечно, позвать кого-нибудь ещё, но Герман попросту не знал людей, которые бы хотели спасения Миши. — Миша, хороший мой, — зарыдал Квятковский, взвалив на себя еле дышащее тело товарища. — Пожалуйста, очнись, скажи хоть что-нибудь! — Плащ… — не осознавая себя, прохрипел Миша и сплюнул на землю сгусток крови. — Забрали… Скоты… — Да чёрт с ним, с этим плащом! В Москву вернёмся — я тебе таких плащей сто штук куплю! Да что там сто! Тысячу! Две тысячи! Ты, главное, держись, слышишь? Сгибаясь под немыслимой тяжестью, Герман побрел к тропинке. Путь был очень тяжёлым и длинным. Квятковский несколько раз останавливался, чтобы отдохнуть, но сил ему это не прибавляло. В конце концов он упал на гору веток и завопил, словно подстреленный медведь — такие скорбь и безысходность выплеснулись из его глаз, рта и груди. — Не могу больше! Прости, Миша! Прости, мой единственный друг! — С меня хватит, — выдохнул Миша, и по его бордово-фиолетовым от побоев щекам заструились слёзы. — Мне пора. Я так и знал… Родился в грязи и умираю в грязи… А так надеялся, что смогу подняться. — Не говори так! Ты не умрёшь! Вот увидишь, мы с тобой будем очень хорошо жить! Мы уедем в Тибет, нас примут в монастырь, — не видя иного выхода, Герман взял Мишу за ноги и поволок по земле. — Тимоша… Где он? — Вот, уже и Тимоша понадобился! Видишь, тебе значительно лучше! Ты точно поправишься! Тимоша побежал за помощью, он скоро вернётся. — Остановись, не тащи меня. Плохо… В глазах темнеет. Посмотрев на друга, Герман увидел, что тот глядел на небо, мимо него, мимо этой лесной пустоши. Голос Миши стал тише, закатился вовнутрь, а после сменился облегченным стоном. — Миша, ты что? Не уходи, прошу! Останься со мной! Со стороны дороги к ним приближались какие-то люди, но Герман воспринимал всё как мираж. Будто это кто-то другой, вселившись в его тело, смотрел на происходящее остекленевшими от слёз глазами. Подошли надзиратели, Тимошка и незнакомцы с медицинскими чемоданчиками наготове. Все что-то говорили, спрашивали, Герман что-то отвечал… — Кто его хоронить будет? — послышалось от пахнущего лекарствами мужчины в не по погоде тёплой куртке. — Хоронить?! — выплыл из небытия Герман. — Как?! — внутри него расползлись все швы, мир осветился вспышкой ужаса. — Что вы говорите?! Разве Мише уже нельзя помочь?! Он ведь только что разговаривал со мной! Я слышал его дыхание, видел, как он моргал! Пожалуйста, сделайте что-нибудь! Умоляю вас! — Герман начал опускаться на колени, но Тимоша его остановил. — Да что вы все стоите?! Люди вокруг Германа засуетились. Пахнущий лекарствами мужчина схватил его за руку, чтобы вколоть успокоительное, но Тимофей закрыл друга собой и закричал: — Не трогайте его! Я не позволю! Я оторву всем вам головы! Он потерял близкого человека, ему страшно и плохо, пусть плачет сколько угодно! Миша, братик мой любимый! Как же так! Никого не послушал, не сберёг себя… Какая потеря, какое горе! Что было дальше, Герман не запомнил. Его куда-то повели, на что-то уложили, попытались чем-то напоить, но он отказался. От беспрерывного плача у него раскалывалась голова и свербело в горле. Он уснул, как только прикрыл опухшие от влаги веки, а проснулся оттого, что его кто-то гладил по голове. — Кирилл… — разомкнул губы Герман. — Кирюша… — Нет, это я. — Тимоша? — Квятковский приподнялся на локтях, но тут же рухнул обратно на подушку. Вспомнив всё, он застонал, словно его прокрутили в мясорубке. — Миша… Он… Он… — Его больше нет, Герман, — Тимофей нашёл в полутьме руку друга и сжал его пальцы. — Я не знаю, какие слова подобрать. Это очень тяжело. Но мы ничего не могли сделать. Мы его предупреждали, просили быть осторожнее. Но он нас не слушал, — юноша снова затрясся в подступивших рыданиях. — Он считал, что главное — вертеться и справляться с жизнью. А какими способами — неважно. Пусть теперь покоится с миром. Он навсегда останется в наших сердцах. Герман уставился на маленькую трещину на стене. Ему нужно было на чём-то сосредоточить внимание, чтобы рассудок не поплыл. Бред! Абсолютнейший бред! Миша не мог уйти навсегда! Так люди не уходят! Это дед Ермолай из их поселения мог уйти навсегда, потому что он старенький, прожил долгую жизнь и многое увидел. Это он, Герман, мог отдать богу душу, когда кашлял и чувствовал слабость во всём теле. А Миша… Он был совсем молод и здоров! Ещё вчера он бегал, смеялся и даже кричал. А сейчас… Его нет? — Я не смогу это пережить! — Герман в безумии схватился за голову. — Тимоша, помоги мне. Столкни меня с обрыва, утопи, заколи ножом! Окажи мне последнюю услугу! Умереть без долгих мучений — лучшее, что со мной может случиться. Эти страдания пора прекратить! Я не смогу совершить самоубийство, у меня не хватит силы духа! Но и жить мне нельзя! — Прекрати говорить чушь! — Это я во всём виноват! — Да при чём тут ты! — Я был лучшим другом Миши! Я должен был почувствовать, что к нему приближалась беда! Должен был ещё раз поговорить с ним, попытаться его образумить, защитить! Какой же я друг, если в самый нужный момент меня не оказалось рядом? Поганец я! Будь я проклят за это! — Перестань себя хаять! Ты ни в чём не виноват! А даже если бы и был виноват, Миша бы тебя простил. А все эти скоты получат по заслугам. Я, конечно, всё понимаю, но убить человека из-за вещей… Сами себе приговор подписали. Их уже куда-то увезли. А ты держись, — и Тимофей снова сжал запястье Германа — не прикладывая сил, но так, чтобы тот почувствовал, что хоть кто-то рядом. — Оно страшно — но держись. И я буду держаться. *** После гибели Миши будни Германа в Сибири сделались совсем невыносимыми. Да, теперь он жил в другой избе, и здесь к нему относились гораздо дружелюбнее, в первую очередь потому, что сочувствовали его недавней утрате, но его глаза не просыхали от слёз, а сердце не переставало кровоточить. Отныне он никого не хотел видеть, ни с кем не заводил разговоров. Даже от Тимошки держался на расстоянии, хотя тот был не против общаться. Очень часто Герман слышал в свой адрес выпады вроде: «Перестань срамиться. О вас с Мишей тут так сплетничали чёрт знает что, а ты своим поведением всё подтверждаешь. Где это видано, чтобы друг рыдал по покойнику сильнее родного брата!» Согреться реально было только алкоголем, уснуть — тоже только с его помощью. Сначала Герману не отказывали в выпивке, но потом от него стали прятать бутылки. Во-первых, он никому ничего не оставлял, а во-вторых, заимел привычку в пьяном угаре пугать всех истошными воплями. К осени другие жители избы начали просить надзирателей отселить от них своего проблемного товарища по несчастью, а те уже сами не знали, в какой угол приткнуть Германа, и что с ним вообще делать. Работать наравне со всеми он не мог по состоянию здоровья — он слишком сильно похудел, у него всегда дрожали руки, а после попытки спасти Мишу он ещё сорвал спину, из-за чего до сих пор даже пятилитровую ёмкость с водой не мог поднять без кряхтений. Кричать на него опасались, считая, что от горя он подвинулся рассудком, а с сумасшедшими лучше не связываться, бить — тем более: после случая с Мишей все сидели тише воды, ниже травы. В итоге Герман снова начал проводить свои дни в углу избы, засыпая под «с этим ненормальным страшно жить под одной крышей, хоть бы не прирезал нас ночью» и просыпаясь под «проверьте, он там не умер?» Письма Кириллу он не писал, о возобновлении отношений не мечтал. Герман не мог представить, как заявится к Лаврентьеву в своей убогой одежде, больной, продрогший и окончательно потерявший человеческое лицо, и скажет: «Кирилл, я снова буду жить с тобой». Он всё ещё был слишком гордым, чтобы примерить на себя роль просителя любви и крова. Да и Кира… Каково ей будет расти рядом с таким отцом? Нет, всё это пора было прекратить. Пусть его единственный мужчина запомнит его тем, кем он был раньше, — «милым мальчиком», «белокурым солнышком» и «истинным воплощением нежности и изящества». В середине осени Герман снова сильно простудился, пробегая легко одетым с берега реки в избу под проливным дождём. Из угла начал слышаться его надрывный кашель, сопровождающийся горячечными проклятиями. Ссыльные со страхом прислушивались к этим ужасным звукам, прятались, кутали носы и рты в шарфы, и крестили воздух. Жизнь не приносила Герману ничего, кроме страданий. Он грезил о смерти, как о чём-то очень спокойном, тихом и ласковом — так уставший каторжник грезит о мягкой перине в конце дня. Вот только кончина всё не приходила. Она лишь маячила где-то на горизонте, улыбалась кроваво-красным ртом, заигрывала, манила. И Герман не понимал, зачем он здесь. Почему он совсем один? Почему он видел вокруг себя только равнодушие и грязь? Отчего всё, к чему он прикасался, — погибало? Очевидно, что для того, чтобы всё закончить, требовались усилия самого Германа. Но у него не получалось наложить на себя руки. Ближе к зиме, увидев, что дела у Германа совсем плохи, Тимоша пошёл на риск. Он украл у Квятковского одно из писем Кирилла, посмотрел адрес отправителя и послал на него крохотную цедулку: «Здравствуйте. Если Вы хотите сохранить Германа, добейтесь, чтобы его куда-нибудь перевели или вернули в Москву по состоянию здоровья. Иначе он долго не протянет». Кирилл отреагировал. Вышестоящие, которые уже давно мечтали избавиться от Германа, пока тот всех не заразил или не зарезал, на этот раз пошли ему навстречу. В один из зимних дней, когда Квятковский цинично посмеивался, перечитывая первые письма от Кирилла (Мама родная, какие эпитеты! Какие прозвища, какая слащавость! Вот два дурака, устроили эпистолярный роман!), к нему подошли двое представительных мужчин в зипунах. — Собирайся, — отдал приказ один из них. — Куда? — уточнил Герман. — Вы хотите сослать меня ещё дальше? Интересная задумка. Вот только я никуда не поеду. Я останусь с Тимофеем. — Нет уж, — послышался знакомый голос. Спустя секунду сам Тимоша вышел из-за спины мужчины. — Можешь считать меня предателем, но я не хочу, чтобы ты оставался. Мне не нужны такие жертвы. Не переживай за меня, Герман. Я приспособился к здешней жизни и завёл приятелей. Мне и без тебя не придётся скучать. Даст бог, в дальнейшем свидимся. — Тимоша, но… — Герман, делай то, что тебе говорят. Квятковский будто находился в кошмарном сне. Лишь головная боль и горький ком в горле говорили о том, что всё происходило наяву. Когда Тимофей обнял его на прощание, он не выдержал и расплакался. — «А может, меня планируют расстрелять, — закрутилось в его белокурой голове. — Как больную собаку, как загнанную и ставшую бесполезной лошадь? Было бы чудесно». Но его надежды не сбылись. Всего Герман провёл в ссылке три года; казалось бы, совсем небольшой срок. Но вернулся из Сибири он тяжелобольным и разрушенным человеком. *** Кирилл выставлял книги на полку в алфавитном порядке с осторожностью, граничащей со священным трепетом. Всё в этой комнате ему было важно и дорого, ведь, по его задумке, именно сюда после своего возвращения должен был заселиться Герман. Конечно, в первые дни они даже умываться будут вместе, держась за руки, но со временем Герману, как любому творческому и самобытному человеку, понадобится личное пространство, где он сможет рисовать, читать и размышлять о прожитом и пережитом. И он, Кирилл, должен обустроить здесь всё по высшему разряду, как в лучших домах Парижа. — Это «Путешествия Гулливера», — улыбнулся Кирилл, пролистав одну из книг. — Кира, помнишь, мы с тобой читали её в прошлом году? — Угу, — буркнула сидящая за письменным столом Кира и смачно откусила кусок персика. — Мне она не понравилась. Кирюсь, у меня задачка не получается. — Возможно, ты до неё ещё не доросла. Попробуем перечитать через годик-другой. Твоему папе эта книга в детстве очень нравилась, он сам мне рассказывал. При слове «папа» Кира спала с лица. Она никогда бы не призналась в этом Кириллу, но ей не понравилось известие о скором прибытии сюда её блудного отца. Нет, Кира ни в коем случае не была злодейкой, желающей папе плохого. Просто она его совсем не помнила, и для неё всё это звучало так, словно в созданный ею и Кирюсей уютный и красивый мирок скоро ворвётся посторонний человек; и одному богу известно, какие у него мысли, повадки и намерения. Кира понимала, что её жизнь не будет прежней, что принц станет уделять внимание кому-то ещё, и это было обидно. Когда Кира попала к Кириллу, она была совсем маленькой. Поначалу ей не нравилась здешняя обстановка, она чувствовала пустоту от отсутствия своей розовой кроватки, изъеденного молью ковра на стене и держащейся на честном слове вешалки, скучала по соседям и, главное, по папе, но потом решила, что ей всё равно, что происходит вокруг, лишь бы её кормили, укладывали на дневной сон и не ругали за шалости, а уже через несколько месяцев она всем своим маленьким сердечком полюбила Кирилла. И даже не за игрушки, книжки и платья, что он ей покупал (хотя всё это, несомненно Кире тоже нравилось), а за его доброту и смешливость. Она бы с удовольствием называла Кирилла отцом, ибо, в сравнении с другими детьми, чувствовала себя обделённой: у них — и мамы, и папы, а у неё — ни первой, ни второго, но Кирилл не велел ей этого делать. — У тебя уже есть отец, — говорил принц. — Он тебя очень любит, как и ты его. Да, сейчас ты подзабыла о своей любви, но она вернётся к тебе сразу же, как вернётся папа. Я — твой друг. У нас с тобой замечательные отношения, но любить меня всё-таки лучше на втором месте. И Кира сдалась. — А папа хороший? — спросила девочка и от волнения заёрзала на стуле. — Папа у тебя самый лучший. — А ты что, всех пап проверял? — Нет, мне это ни к чему. Я и так знаю, что лучше него никого нет. — А он надолго приедет? — Навсегда. Я ведь тебе уже говорил. — А можно я не буду решать задачку? Лучше нарисую картину для папы. — Нет, нельзя. Решишь задачку — и делай что угодно. Кира обхватила голову обеими руками и хмуро посмотрела в тетрадь. — За забором гуляли курицы, — проговорила она. — Всего там было шесть куриных лап… Ой, Кирюсь, смотри, какая птичка! Вон там, на дереве! — Кирочка, радость моя, не отвлекайся. — За забором гуляли курицы… Сколько всего было куриц… Кирюсь, а когда мы пойдём на речку, пускать кораблики? Ты обещал! — Погоди, а что это за задача? — вдруг встрепенулся Кирилл. — Это не её мы два дня назад решали? — Ой, точно! Это же задачка номер восемь, а мне нужно решить девятую, про Сашу и Митю, которые рисуют травку и цветочки! — Кира, это возмутительно! Нужно быть внимательнее! Кирилл и сам волновался при мыслях о предстоящей встрече с Германом. Но для него в этой встрече было очень много всего сладкого, полузапретного, и оттого желанного. Страх от известия о болезни Германа отпустил его довольно быстро. Кирилл как-то по-детски верил, что, имея деньги и волю к жизни, можно исцелиться от чего угодно. В конце концов, ему ничто не помешает отвезти Германа в Южную Францию — там и медицина лучше, и климат мягче. — Саша и Митя рисуют, — читала Кира. — Саша рисует цветочки… Ой, я чувствую себя очень любящей! — Любящей? Меня? — широко улыбнулся Кирилл. — Персики, — мечтательно закатила глаза малышка. — Тоже неплохо, — со смехом подытожил Лаврентьев. Он готов был записывать фразы и проделки Киры в тетрадь, ибо у той была недюжинная фантазия. Например, вчера она решила поупражняться в нательной живописи — разрисовала свои руки, ноги и лицо масляными красками и даже один из передних зубов закрасила чёрным. Получилась ужасная «дырка». На вопрос Кирилла, что это такое, Кира ответила, что выбила себе зуб, когда качалась на стуле. А неделю назад, во время вечернего чтения, Кира прочла пятую строчку сверху как «путь к реке был говнист». — Как-как? — вздёрнул брови Кирилл. — Может быть, тернист? — Может быть. Кирилл закончил расставлять книги и окинул комнату придирчивым взором. — Кирочка, как думаешь, чего ещё здесь не хватает? Письменный стол есть, журнальный — тоже. Шторы сшиты на заказ, диван — заграничного производства… — Игрушек не хватает, — уверенно ответила Кира. Лаврентьев задумался. Вряд ли Германа заинтересуют фарфоровые куклы и набитые соломой зайцы. Но если заменить их красивыми статуэтками… — Молодец, моя хорошая. Я добавлю сюда милых мелочей. Кирилла беспокоило, что Герман не отвечал на его последние письма, но он гнал от себя плохие мысли. Он слишком долго грезил о воссоединении со своим возлюбленным, чтобы накануне столь знаменательного события впадать в уныние. В конце концов, может, Герману снова недоставало бумаги, или он был сильно загружен работой. — «Работой… — подумал Кирилл, и его плечи опустились. Он будто стал ниже ростом. — Как мне помочь ему забыть пережитый кошмар? Как искупить свою вину? Ведь если бы я не велел уйти ему тогда, всё сложилось бы по-другому. Можно сколько угодно утешать себя надеждами, что ещё не поздно всё исправить, но правда такова, что молодость и здоровье Герману никто никогда не вернёт. А ведь за эти годы он мог бы создать крепкую семью с другим человеком, многого добиться на творческом поприще и исполнить свои мечты. Как жаль! Какая поломанная судьба!» — Принц, ты чего? — забеспокоилась Кира. — Ничего, всё в порядке. Поможешь мне наточить карандаши? Вскоре комната была полностью обустроена. Вот только Герман всё не появлялся. *** Герман шёл по скрипучему полу длинного коридора. Здесь, как и в старые, но не совсем добрые времена, было шумно и накурено. Да и вообще, во всём общежитии со времени первого заселения в него Квятковского ничего не изменилось, кроме того, что жильцы окончательно спились и заблядовались. — Интересно, остались ли здесь свободные комнаты, — прошептал Герман и закашлялся, прикрыв рот грязным носовым платком. — Парень, ты к кому? — вдруг раздалось у него за спиной. Визитёр обернулся и столкнулся с одним из своих давних собутыльников. — Здравствуй, Толь. Анатолий вгляделся в гостя, как в совсем незнакомого, не понимая, откуда этот измученный чахотик знал его имя. И только когда молодой человек снял закрывающий лицо шарф и взглянул на него лихорадочными, заплаканными, но по-прежнему голубыми и пронзительными глазами, старожил общежития всё понял. — Герман, ты? Ничего себе… — Что, некрасив? Ну уж каков есть. — Вернулся, освободился! Поздравляю! — Выпить не найдётся? — Да о чём речь! Раз, два, три, морская фигура — замри! — засмеялся Толя и достал из-за пазухи бутылку разбавленного самогона. — Я как раз к новым жильцам шёл, познакомиться и выпить за то, чтобы у них всё было хорошо на новом месте. — А моя комната ещё свободна? — Нет, Геруха. Туда год назад какой-то вдовец заселился. — А другие пустующие комнаты есть? — Есть. Но я бы не советовал тебе здесь жить. Все более-менее приличные люди отсюда уже уехали, остались лишь те, кому некуда податься. Стены, вон, обветшали, потолок прогнил. А ты, по кашлю слышу, больной. Ты здесь окочуришься. — А я — как раз из неприличных, — Герман убрал налипшую на лицо прядь давно немытых волос. — И из тех, кому некуда податься. Мне хорошие условия ни к чему, я на всё согласен. — Совсем забыл! Перед тем, как этот хрен заселился в твою комнату, мы с мужиками забрали оттуда твои вещи. Ну, всякие мелочи, что остались: перчатки, полотенца, ложки. Сейчас отдам. Герман благодарно улыбнулся. Это в ссылке он стал совсем искромсанным циником, внутри у которого всё переломано, как после большого погрома, поэтому и не ужился в компании. А здешним людям он запомнился как зависимый от даров Бахуса, но очень милый парень, который и бездомных животных кормил, и стулья после побоищ своих собутыльников пробовал чинить, и женщинам с уборкой кухни помогал. Здесь его любили. — Спасибо, Толя. Вскоре в руках у Германа была небольшая коробка с пустяками из его прошлой жизни. Он без интереса рассмотрел ложки, карандаши, истрепанные тетради и лечебные мази, но вздрогнул, найдя на дне вязаные пинетки. Такие крошечные, трогательные… Герман отчётливо вспомнил, как покупал их у бабушки на рынке. — Это всё, что у меня осталось от Киры, — прошептал он. В голову ударили воспоминания. — Пап, а отгадай загадку, — просит Кира. — Лёг усатый, встал голбатый — кто это? — Думаю, кот, — отвечает Герман. — Кирочка, прошу, не скачи! Но Кира продолжает прыгать по дивану так, что тот стучит спинкой о стену со звуками отбойного молотка. — Пап, а отгадай ещё одну! Выгнул спинку он дугой, замяукал — кто такой? — Тоже кот. — Плавильно! А теперь ты мне загадку загадай! — Хорошо. Дремлют на подушке маленькие ушки, мягонькие лапки, коготки-царапки — кто это? — Опять киса! Так неинтелесно! Только свадьба настаёт, муж жене это даёт — что это? Герман сдвигает брови к переносице. — Кирочка, где и от кого ты услышала такую чушь? — На кухне, — хлопает ресницами Кирочка. — От дяди Коли… Он сказал, что это фамилия. — Фамилия?! Ах, да! Конечно! Кира была непосредственной, весёлой и совершенно очаровательной крохой. А ведь сейчас она подросла и изменилась. Зная Кирилла, Герман был уверен, что тот сделал из своей названной дочери знатную даму с золотой ложкой во рту. При других обстоятельствах Квятковский был бы против этого. Однажды он даже всерьёз осерчал на пришедшую к кому-то из здешних обитателей девушку: она была то ли актрисой, то ли натурщицей, и, увидев в коридоре Киру, решила её порадовать, нарядить в свои украшения, в шелковый шарфик и в шляпку с перьями. — Вы с ума сошли? — возмутился Герман, узрев сие безобразие. — Вы понимаете, как навредили моей дочери? Она ведь теперь будет вспоминать и грезить об этом барахле! О мишуре, которая ещё никому не принесла счастья и спокойствия. Это неправильные ценности. Я учил Киру мечтать о великом. Но раз всё так сложилось… Оставалось надеяться, что вместе с изысканным вкусом, манерами и любовью к драгоценностям, Кирилл привьёт Кирочке и духовные значимости. — Пап, а я, когда выласту, не стану замуж выходить, — улыбается Кирочка, гладя папу по волосам. — Ну и не выходи, — кивает Герман и приподнимается, касаясь губами лба дочери. — А то выйду, а ты без меня скучать будешь! — Конечно. Какое счастье, что ты у меня есть! Не представляю, что бы я без тебя делал! — А давай плитволимся, что меня нет? Я сплячусь под стол, а ты будешь думать, чем заняться! — Нет-нет, я это даже воображать не стану! — Я очень хочу её увидеть, — вздохнул Герман. Но он не представлял, как это сделать, не попавшись на глаза Кириллу. А сталкиваться с последним сейчас ему не хотелось даже под страхом смерти. Возможно, попозже… — Зачем я обманываюсь? — оборвал самого себя Квятковский. — Я просто не хочу, чтобы Кирилл забирал меня к себе. Я даже боюсь этого! Боюсь спокойной и красивой жизни! Сейчас напьюсь как в последний раз — в этом и всё моё счастье. Герман снова закашлялся, уткнувшись в сгиб локтя. А когда почувствовал себя лучше, бережно убрал пинетки в карман куртки. Там же лежало подаренное Кириллом кольцо и деревянный браслет Миши — единственное, что Герману позволили забрать на память о единственном друге. — Вот и всё моё имущество. Ни родового, ни благоприобретённого нет, но хоть такое… Не сберёг я ни любовь, ни семью, ни дружбу. Только пепел остался. Щемящая душу ностальгия на несколько секунд забрала у Германа боль и отправила его в те времена, где он был юн, красив и смешлив. Вот только прекрасными те времена ему уже не казались. Прекрасные времена настанут здесь и сейчас. От него никто ничего не будет требовать, никто не станет его поучать и заставлять отказываться от вредных привычек — благодать! Оставалось только наняться на простенькую работу, чтобы водились деньги на водку и закуску, и можно до скорого конца своего существования ни о чём не беспокоиться. *** Герман встретился с дочерью через три дня после своего возвращения. До этого он несколько раз сидел неподалеку от знакомой усадьбы, пытаясь поймать момент, когда Кира выйдет за пределы двора в компании кого-нибудь из прислуги, но всё было тщетно: он не увидел ни Кирочку, ни её попечителя, ни их прислугу, и уже подумывал оставить свою затею, как госпожа удача всё-таки обратила на него свой взор. В этот день Кира вышла за забор, чтобы проводить домой свою первую учительницу рисования — маленькую и сухонькую старушку с певучим именем Алевтина Васильевна. Они были знакомы всего пару месяцев, но успели сдружиться. — До свидания, добрая учительница, — сказала Кира и шутливо поклонилась. — До свидания, Кира, — попрощалась старушка. — Не забудь нарисовать ромашки к следующему занятию. Герману стало жарко, словно его запихнули в баню по-чёрному. Его дочь была такой красивой и повзрослевшей! Нарядной, в светло-коричневой шубке с пятнышками, что делала её похожей на оленёнка, с большим бантом на голове, в чёрных сапожках… Что и говорить, цвела и пахла. — Кира! — позвал Герман. Кира завертела головой по сторонам. Алевтина Васильевна на всякий случай сделала шаг вперёд. Герман устремился к своей, но уже чужой дочери. Малышка заметно заволновалась, а потом вдруг обратилась к учительнице: — Дайте мне пару монеток, пожалуйста. — Зачем? — удивилась Алевтина Васильевна, но запустила руку в карман пальто, чтобы достать кошелёк. — Я хочу помочь дяде. Кира решила, что незнакомец — попрошайка. Кирилл этот слой населения терпеть не мог и даже нередко вступал в перебранки с теми, кто стоял около театров и кафе со стаканами. — Что у вас случилось, молодой человек? — с сарказмом интересовался он, подходя к просителю. — Почему со стаканчиком стоите? Не знаете, куда выбросить? Пойдемте, провожу вас к урне. Тот начинал бормотать что-то нечленораздельное, а Кирилл пёр, как Кутузов на Наполеона: — На водку вам, смотрю, уже хватает, можете уходить. Что? Не пьёте? А перегаром от кого пахнет? Явно не от меня. На продукты собираете? На какие именно? А почему не работаете? Вроде здоровый парень, руки-ноги есть. Работаете? Где и кем? Такого допроса неподготовленный попрошайка, как правило, вынести уже не мог и сбегал. Но Кира не разделяла позицию своего названного отца и искренне жалела таких людей, не веря, что большинство из них — обыкновенные проходимцы, не желающие зарабатывать честным трудом. — Держите, — улыбнулась Кирочка и протянула подошедшему дяде две монетки. — Нет, мне ничего не нужно, — отказался тот. — Кира, какая ты красивая. Так подросла! — Кто вы? — обеспокоилась Алевтина Васильевна. — Я позову Кирилла Ювенальевича. — Нет, пожалуйста! Не нужно никого звать! Я сейчас уйду! Я просто… — не договорив, Герман закашлялся и тут же извиняюще улыбнулся: — Не бойтесь, у меня обыкновенная простуда. И, умоляю, не говорите Кириллу Юлиан… ой, Ювенальевичу, что я здесь был. Кира, как ты живёшь? Кирилл тебя не обижает? У Алевтины Васильевны не возникло желания перечить незнакомцу — уж слишком несчастным тот выглядел. Хотя происходящее, конечно, нарушало все правила. — Нет, Кирилл меня любит, — пролепетала Кира и вцепилась в руку учительницы. Девочка не подумала, что этот человек — её родной отец. По рассказам Кирилла она представляла папу настоящим красавцем: ясноглазым, светлокожим, белокурым и «изящным, как статуэтка античных времён». А этот дядя был до того выцветшим, одичавшим и болезным, что на него было невозможно смотреть без слёз. Да, он отличался хрупким телосложением и светлой шевелюрой, но это уже не делало его изящным. Скорее, он был похож на бледнолицую, костлявую хтонь, на днях вылезшую из могилы. — Здорово. Не огорчай его, хорошо? Прислушивайся к нему, цени всё, что он для тебя делает. И сохрани нашу встречу в тайне. Кира кивнула. Она и сама не собиралась рассказывать Кириллу о произошедшем. Подумаешь, подошёл какой-то дядька, своего имени не назвал, ничего интересного не поведал, ничего у неё не попросил и не предложил. Ну и бог с ним! — Будь счастлива, маленькая принцесса, — пожелал Герман и скрылся в снежной круговерти. *** Но после вышеописанного события Герману стало очень страшно. На работу его пока не принимали, заняться ему было нечем, и как следствие, он только пил, худел и прокручивал в голове крайне неприятные сценарии своего будущего. Услышав от соседей, что Света однажды приходила в общежитие и хотела встретиться с дочкой, Герман решил, что она придёт ещё раз, и, увидев его, больного и опустившего, начнёт злорадствовать. А то и Кирилл заявится со своими сочувствующими охами-вздохами. Квятковский не знал, куда податься и что предпринять, чтобы почувствовать себя лучше. Поэтому, когда сосед предложил ему навестить кого-нибудь из родственников, он не ушёл в отрицание, а задумался. Он действительно соскучился по отцу. Да, их отношения всегда оставляли желать лучшего, но, разбирая по косточкам свои нынешние чувства, Герман был готов поверить даже в зов крови. Болезнь и мысли о скорой кончине заставляли его вспоминать детство и весь свой жизненный путь. Конечно, если бы отец после смерти любимой жены вёл себя иначе, у Германа бы всё сложилось гораздо счастливее: он бы не уехал из столицы, продолжил бы учиться, в дальнейшем бы нашёл хорошую работу, не попал бы в жизненный переплёт… Но всё это — дела давно минувших дней. Наверное, пришла пора простить родителя. Да, он выбил своему сыну почву из-под ног, но грехов посерьёзнее за ним не водилось. Всего произошедшего можно было бы избежать, если бы сам Герман обладал внутренним стержнем и разумом. Отбросив последние сомнения, Квятковский собрался в столицу. Он даже одолжил у соседей денег, чтобы купить отцу его любимые вкусности — малиновое варенье, пряники с начинкой, сушеную рыбу и квас. Но в пути его настрой на лучшее куда-то улетучился. Герман снова начал сомневаться в правильности своего решения. Как отец его примет? Будет ли хоть немного рад? Что они скажут друг другу — родные по крови, но чужие по сути люди? Прибыв в Петербург, Герман решил сначала прогуляться по знакомым с детства местам. В парке неподалёку от дома ему была знакома каждая тропинка и каждая скамейка. Сколько раз он сидел здесь в компании бродячих музыкантов! Но гулять пришлось недолго. Колючий мороз защипал щёки Германа, залез под куртку, застыл маленькими хрусталиками в его светлых волосах. Дабы согреться и успокоить нервы, Герман открыл привезённую с собой бутылку водки и сделал пару глотков прямо из горлышка. Этого оказалось достаточно, чтобы по его телу разлилось тепло, а на губах появилась глуповатая улыбка. На голодный желудок Герман всегда пьянел очень быстро. Когда гость столицы подошёл к отчему дому, в его горле родился липкий комок страха. Со словами «господи, благослови!» Герман снова приложился к бутылке и, страшно кашляя, постучал в дверь. Послышались шаркающие шаги, и на пороге возникла та самая экономка, с которой Александр Владимирович когда-то подумывал сочетаться браком. А может, уже и сочетался, — этого Герман не знал. — Здравствуйте, — растерянно пробормотала женщина. — Здрасьте, — вторил ей уже изрядно захмелевший Герман. — Потолок покрасьте. — Вы к Александру Владимировичу? Я сейчас его позову. — Будьте так любезны, — продолжил ерничать гость. — Вы с ним свадьбу-то сыграли? Или по-прежнему находитесь в блудном сожительстве? — А откуда вы… Погодите, кем вы приходитесь Александру Владимировичу? — А вы меня не узнали? — Герман размотал шарф. — Я — его сын. Экономка прищурила глаза и приоткрыла рот. — Герман Александрович! Единственного наследника своего барина и возлюбленного женщина до сегодняшнего дня видела лишь один раз, и запомнила его сильно худым и растрёпанным, но милым юношей. Тогда он пробыл в родном доме совсем недолго: пообедал, пообщался с отцом, перемыл все кастрюли и чашки на кухне, и уехал — видимо, очень смутился от новости о связи своего родителя с прислужницей. В его глазах тогда виднелась какая-то тихая улыбка, непостижимая обывателям тайна, и экономка даже пошутила: «Что вы такой задумчивый? Неужто любовь виновата?» Сейчас же перед ней стояло тщедушное существо с впалой грудью и нездоровым румянцем на щеках. — «А спина-то прямая, подчёркивающая уверенность, — мысленно отметила экономка. — И голову держит как королевич. Вот откуда в нём это? Кто научил?» — Не глядите на меня с таким отвращением. Я ведь и обидеться могу. Где отец-то? — Герман Александрович, думаю, к отцу вам сейчас не нужно. Он вас и так не особо жалует, а, как увидит в пьяном виде, совсем с цепи сорвётся. Пойдёмте на второй этаж, отдохнёте, поспите, а потом… — Не указывайте мне, что делать! Я хочу увидеть своего отца! Я по нему очень соскучился! — Я ведь пытаюсь вам помочь! — Себе помогите! А я в полном порядке! Наконец явился и Александр Владимирович. Первым делом он, как и экономка, взглянул на незваного гостя с таким изумлением, будто столкнулся с воскресшим Петром Первым. Что же это — кто-то вошёл в усадьбу без его дозволения?! Значит, этот «кто-то» — явно близкий, не сомневающийся в своих правах на визит. Вот дела! Да у него из присных-то никого не осталось! Разве что двоюродный племянник Андрей, но он — красивый и представительный парень. А этот визитёр был развинченным и нескладным, точно поломанный зонт. Смотреть на него было… не противно, нет. Но жалко. — Здравствуйте, папа, — промолвил гость сухим, как прошлогодняя трава, голосом. Александр Владимирович охнул и подошёл поближе, чтобы получше разглядеть человека, что по документам всё ещё значился его сыном. — Герман, неужели это ты? — А что, не узнали? Да, вот так меня жизнь угробила. — Разве ты не должен быть в ссылке? — Как видите, я уже вернулся. — А почему так скоро? Герман хотел промолчать, но не смог. Расчувствовавшись, он бросился отцу на грудь и заплакал. — Болен я, папа! Сильно болен! — Что же, денег тебе на лекарства дать? — Нет. Мне ничего не нужно. — Прямо ничего? Может, ещё поразмыслишь? Я могу достать для тебя путёвку на воды на длительный срок. — «Достаньте, — мысленно ответил Герман. — И сразу засуньте её себе куда-нибудь! Бессрочно!» Он отвернулся к окну и продолжил горько плакать, смотря на нарисованные морозом узоры на стекле. — Перестань так убиваться! Грешно это! Пойдём лучше чай пить. — Я предпочту водку. — Э, нет, — испугался Александр Владимирович и отнял у сына бутылку. — В моём доме этой дряни не место. — Отец, а я ведь вам писал. Да, пару раз, но всё-таки… Что же вы не отвечали? Александр Владимирович поморщился, словно ему задали очень сложный вопрос. Герман заглянул в его честные глаза и понял — отец не со зла: он, может, был бы и не против с ним поговорить, но не верил в счастливый исход этой беседы и боялся очередной ссоры, которые у них всегда проходили по одинаковому сценарию: начинались как простые дискуссии, но через несколько минут перетекали в заварушки, и непонятно, кто их начинал. Сейчас ему хотелось жить спокойной жизнью со своей любимой женщиной, а некстати приехавший отпрыск всё испортил. — Ты надолго приехал? Можешь занять комнату, в которой жил в детстве. — Нет, я проездом, — проглотил слюну гость. — Комната мне без надобности. Отец, я привёз вам гостинцы: варенье, пряники, сушёную рыбу… — Рыбу? А я-то думаю, что так дурно пахнет! Нет, сынок, забери всё это обратно. В дороге съешь. Я, слава богу, не голодаю. Ты уже купил обратный билет до Москвы? На какое время? Но Герману было сложно составлять внятные предложения из-за застоя слёз в глазах и саднящей боли в горле и груди, поэтому он, собрав в кулак последние силы, пробормотал лишь: — Да, купил. Я сейчас уеду. Но можно мне кое-что… — Да, что? — тон Александра Владимировича стал официальным. — Можно мне забрать портрет мамы? У вас ведь их много. Я повешу его над своей кроватью. — Вот как! Можно, конечно. И хозяин дома, обрадовавшись необременительности просьбы Германа, удалился в одну из дальних комнат, чтобы принести ему какой-нибудь из хранящихся там портретов своей покойной супруги. *** С той поры Герман решил навсегда забыть и о «городе пышном, городе бедном», с его тяжёлой и мрачной атмосферой, где в каждом строении чувствовались философский и религиозный подтекст, и о всех своих родственниках. Несмотря на то, что Герман провёл в Петербурге большую часть своей жизни, он всегда ощущал себя там неоперившимся птенцом, которого когтистой лапой выдернули из гнезда. Разве что заниматься творчеством там было поприятнее, ибо даже тамошний воздух, казалось, наталкивал на нетипичные мысли и на «души прекрасные порывы». Но теперь для Германа «души» в последнем выражении было глаголом. Он повесил портрет матери в своей комнате, неподалёку от нового, на скорую руку созданного портрета Кирилла, положил на прикроватную тумбочку пинетки Киры, спрятал все письма подальше и начал вливаться в новую старую жизнь. Герман решил, что если придёт Света, он ей просто-напросто не откроет, а если Кирилл — честно скажет, что не хочет к нему возвращаться, ибо они — уже чужие друг другу люди. Ещё через несколько дней Германа приняли на рынок, в торговый ряд со специями, чаем и кофе. А однажды, прогуливаясь перед работой по заснеженному, едва проснувшемуся городу, Квятковский решил зайти в театр, в котором когда-то сыграл свою единственную роль. Конечно, о возобновлении актёрской деятельности он не помышлял. Но вдруг его примут туда, чтобы мыть полы или даже рисовать декорации? Изрядно постаревший, но по-прежнему стильно одетый художественный руководитель Анатолий Петрович, в отличие от всех остальных, быстро узнал Германа. Образ «обаятельного мальчика», который, по мнению зрителей, был достоин внимания лучших постановщиков, прочно закрепился в его памяти. Он возлагал на Германа большие надежды и даже был готов защищать его от нападок менее талантливых актёров, а тот его предал. А вместе с ним — своих коллег и только-только появившихся поклонников. Просто взял и перестал ходить на репетиции! Анатолий Петрович пытался выйти на Германа через других людей, но тот как в воду канул. Даже Кирилл Лаврентьев не обладал информацией о его местоположении. И что ещё оставалось художественному руководителю? Только погоревать и найти Квятковскому замену. Хотя достойно того по сей день никто не заменил. Такие самородки рождались раз в тысячу лет. Нынешний визит Германа Анатолий Петрович воспринял как личное оскорбление. Он даже хотел высказать этому негоднику всё, что должен был высказать ещё восемь лет назад, но, с близкого расстояния оценив его состояние, передумал. Визитёр едва держался на ногах, какие уж ему выговоры? — Анатолий Петрович, — с улыбкой обратился к мужчине Герман. — Вы меня помните? — Помню, но предпочёл бы забыть. Вы очень сильно всех нас подвели. — Простите, у меня были на то причины. — Взрослые люди так не поступают! Вы могли хотя бы предупредить меня о том, что больше здесь не появитесь! Ладно, с тех пор утекло очень много воды. Но сейчас-то вы зачем пришли? — Я бы хотел здесь работать. О возвращении на сцену я не мечтаю, но, может, вам нужен реквизитор? Или хотя бы уборщик? — Нет, Герман Александрович. Попытайте удачу где-нибудь ещё. — Мне много платить не нужно, я на всё соглашусь! — Да посмотрите на себя! Вы выглядите так, будто вас смерть на минуту покурить отпустила! О какой работе может идти речь? По взгляду Германа Анатолий Петрович понял, что наговорил лишнего, и ему стало стыдно. — Хорошо, вы можете попробовать мыть здесь полы по вечерам, — сдался почётный работник сферы культуры. — Но на большее не рассчитывайте. Не считайте меня злыднем, Герман Александрович. Если бы вы пришли пораньше, я бы, возможно, позволил вам принимать участие в массовках, но сейчас, простите, время упущено. Да и скромные романтические герои, для которых вы идеально подходите, ныне не востребованы. Всем нужны актёры с более броской внешностью, актёры-бунтари. — Мыть полы? — воодушевился Герман. — Конечно! Я справлюсь! Спасибо большое! На первый день, а точнее, вечер, на своей новой работе Квятковский собирался как на праздник, даже соседей в это дело впутал. — Тёть Том, помойте мне голову, пожалуйста, — обратился он к доброй женщине, что частенько угощала его пирожками. — Я уже воду нагрел. — Больше тебе ничего не помыть? — засмеялась та. — Мне самому себе на волосы поливать из ковшика не очень удобно, а в ванную я уже не успею. — Ладно, сейчас. Неужто на свидание собираешься? Наряжаешься, намываешься. И трезвый как судья! Работа оказалась не самой лёгкой, но Герман, как и обещал, со всем справлялся. Единственное, что ему мешало, — кашель, иногда вызывающий приступы удушья. От него страдал не только сам Герман, но и те, кто с ним контактировали. Никто не знал, заразно ли это, но все боялись. На четвёртый день, когда Герман вышел из театра, чтобы подальше выплеснуть грязную воду из ведра, его окликнул знакомый голос. Этот голос пустил мурашки по его коже, осел теплом в его душе и рассыпался в полутьме звёздным крошевом. Герман застыл мраморным изваянием. Даже его сердце замерло, как мгновенно остановившиеся часы. — Герман, наконец-то я тебя нашёл! Я так долго тебя искал! — Здравствуй, Кирилл, — Герман умудрился поздороваться со своим первым и единственным возлюбленным, как с обыкновенным старым знакомым: спокойно и в меру доброжелательно. А вот Кирилл, напротив, говорил так громко и значительно, что вскоре на них обратили внимание все немногочисленные прохожие. — Что же ты ко мне не пришёл? Герман теперь стеснялся Лаврентьева почти так же, как в девятнадцать лет, после их первой совместной ночи. Он отвык от него, поэтому, вместо того, чтобы привести в исполнение своей план и разразиться тирадой на тему «нам не стоит всё возвращать», лишь потупил грустные, словно написанные берлинской лазурью, глаза и прошептал: — Я к отцу ездил. Работал много… Времени не было. — Господи, Герман! — Кирилл насилу справился со своим желанием кончиками пальцев коснуться чужой острой скулы, словно очерченной рафаэлевской кистью, а губами — белоснежного и по-детски нахмуренного лба. — Я так ждал твоего возвращения! Дни в календаре зачёркивал! — он говорил почти скороговоркой, незаметно утирая слёзы радости. — Пойдём домой, я тебя очень прошу. Взгляд Германа привык к полутьме, и он смог получше разглядеть Кирилла — тот, как обычно, был дьявольски красив: высокий, мощный, дорогущий, ничуть не сомневающийся в своей ухоженности. Глаза — карие вишни — вроде бы улыбались, но на их дне плескалась невысказанная боль. — А тебя не смущает мой внешний вид? — спросил Герман. — О чём ты? Ты прекрасно выглядишь. — Да ну тебя, — это была такая лесть, что Герману захотелось плеваться. — Я что-то не то сказал? Прости, Гермуся! Это от растерянности. Пойдём домой. Я совсем замёрз, да и у тебя, вон, иней в волосах. Надень мою шубу. — Да не пойду я никуда! Кирилл, не валяй дурака! Между нами такая пропасть! Ты — красивый, здоровый и сильный, а я — труженик грязных полов. Я рад, что мы встретились, мне приятно, что ты меня не забыл, но в остальном — прости, но мне пора. — Герман! Дорогой, но едва ли милый ко мне мальчик! Ну хочешь, я за тебя вымою этот чёртов пол? — Ты-то? Вот язык без костей! Что хочет, то и лопочет! Но я бы на это поглядел. — Но потом ты пойдёшь со мной в кафе. Договорились? — Посмотрим. Стоит ли говорить, что когда Кирилл зашёл в театр, на него тотчас обратили взоры все присутствующие? Один из стайки собирающихся расходиться по домам актёров сразу его узнал; когда-то, пока для Кирилла не закрыл двери высший свет, они бывали на одних и тех же мероприятиях. — О, Кирилл Лаврентьев! — торжественно провозгласил молодой человек и протянул позднему визитёру ладонь для рукопожатия. — Рад вас видеть! Вы меня не помните? Я — Георгий Аверьянов. Кирилл лишь кивнул в ответ. Фамилия парня показалась ему знакомой, но он не был расположен к беседам с ничего не значащими людьми из прошлого. Рядом с ним стоял тот, с кем было связано его настоящее и будущее, а это — гораздо важнее. — Вы водите дружбу с уборщиком? — удивился актёр; даже, как показалось, Герману, без злого умысла, а по сердечной непосредственности. — Никогда бы не подумал! — Нет, Кирилл со мной не дружит, — открестился Квятковский, опасаясь за остатки репутации своего возлюбленного. — Это он так… Я пойду, мне ещё нужно… — Герман! — испугался Кирилл. — Я ненадолго, на улицу, — и Герман отвернулся, чтобы скрыть россыпь слёз на ресницах. Кирилл сжал кулаки от бессилия. Сколько ещё тот, без кого он не смыслил самого себя, будет доводить его до неистовства и убегать, как дикий котёнок? Вдыхать в него жизнь, а потом забирать её обратно? Чёрт, ведь всё было нормально! Ему почти удалось вновь расположить Германа к себе! А этот щегол Георгий парой слов всё испортил! Вот кто его просил?! — Герман, — Лаврентьев открыл глаза, но Квятковского уже не было поблизости. — Он принял ваши слова близко к сердцу! Он обиделся! — Ну и бог с ним, — ответил актёр, совсем не понимая, что в этом страшного. — Подумаешь, обидчивый какой! Уборщик, а строит из себя невесть кого! Тут уж Кирилл не выдержал и со всего маху ударил своего старого знакомого в нос. Силу он не рассчитал, и парень повалился на пол, отчаянно взвизгнув. Остальные актёры всполошились и набросились на Лаврентьева с упрёками и угрозами: — Эй, что он вам сделал?! — Вы сумасшедший?! Вы же его покалечили! — Мы пожалуемся на вас кому нужно! И лишь одна из девушек выразила обеспокоенность отсутствием Германа: — А где наш уборщик? Он ведь не закончил свою работу! — Не переживайте, — отозвался Кирилл. — Я закончу за него. *** Герман сидел за столом и, запустив руки в волосы, тупо глядел на давно немытый пол, но оживился в ту же секунду, как на пороге кухни появился его сосед с бутылкой самогонной настойки. Восторг Квятковского быстро разделили другие присутствующие, и жутко прокуренное, тесное помещение наполнилось нестройным хором голосов. — Толь, тебя только за смертью посылать, — проворчал Герман. — Давай, разливай. — Целый час где-то шатался! — поддержал его один из мужиков. — Мы же тут подыхаем! — Ох, как пахнет! — потёр руки Герман, когда сосед откупорил заветную бутылку. — Что здесь? Перец? — Самогон, чеснок, перец, лавровый лист и мёд, — рассказал Толя. — После этого пойла лучше пару дней ни с кем не целоваться. — Ой, насмешил! Да с такими, как мы, и в голодный год за мешок картошки никто поцеловаться не захочет! — Твоя правда. Мы же этот… Как его… Неблагополучный слой общества! — Мужики, вы бы не курили, — попросил Герман и два раза кашлянул. — Я задыхаюсь. Ему никто не ответил. — Слушайте! Тост! За наступающее алкогольное опьянение! Вскоре на кухню набились падшие женщины, начались пошлые разговоры и нелепые танцы. Две гостьи даже влезли на стол, отодвинув ногами тарелки и стаканы. Все заулюлюкали и засмеялись. Герман тоже развеселился, несмотря на сдавливающую боль в грудной клетке. — Я держу на руках богиню! — громко, как на демонстрации, прокричал один из мужиков и оторвал от пола ярко накрашенную женщину в коротеньком халате. — И будет очень здорово, если богиня позволит мне ущипнуть её за грудь! — Да иди ты, — принялась вяло отбиваться гостья. — Я в тебя сейчас самогоном плесну! Табачный дым так и висел в воздухе плотным слоем, алкоголь лился рекой, из комнат жильцов, что не принимали участия во всеобщем веселье, то и дело слышалось: «ууу, уроды, погибели на них нет!» и «сегодня церковный праздник, а эти орут, как бесноватые!» — Ого! А это кто такой красивый? — вдруг промурлыкала та самая женщина в коротеньком халатике и ударила по рукам удерживающего её алкоголика. — Отпусти меня, олух! А вы, дорогой гость, не стесняйтесь, проходите! Вот так мужчина! Как с картины! Даю голову на отсечение, вы способны разбить сердце любой даме! И что вы забыли в этом клоповнике? — Едрить твою через коромысло! — возвёл ладони к потолку сидящий рядом с Германом мужик из тридцать четвёртой комнаты. — Чтоб мне провалиться! Король в нашей помойке! Герман в этот момент был занят тем, что пил настойку с горла, но, когда безразлично взглянул в сторону дверного проёма и увидел там Кирилла, даже не удивился. — Познакомьтесь, это мой дружок Кирюша, — гаденько осклабился опустившийся пьяница, когда-то бывший «солнечным лучиком». — Не робейте перед ним, как перед принцем Альбертом Саксеном-Кобургом… Или как его там? Тьфу, язык заплетается! Лучше налейте ему нашей бормотухи! Кирилл стоял, оперевшись о дверной косяк, как о плечо верного друга. Сейчас, когда он увидел Германа «во всей красе», в привычной для оного среде обитания, рядом с вновь обретёнными «друзьями», его душу железными тисками сковало чувство брезгливой жалости, а под сердцем кольнуло как перед приступом. — «Уходи отсюда, — подсказало мужчине шестое чувство. — Герману уже невозможно помочь. Да и пытаться не стоит — сам увязнешь в этом болоте. Да, ты станешь крысой, сбежавшей с тонущего корабля, но это — нормально и разумно. Все живые существа оттуда бегут, иначе погибнут!» Смотреть по сторонам Кирилл не мог, это было выше его сил. Такой нищеты, грязи и разрухи он не встречал даже на страницах книг Виктора Гюго. Разве кто-то мог жить ТАК в нынешнее время, да ещё не в какой-нибудь богом забытой глубинке, а в большой, кипучей и хлебосольной Москве? — Толя, ударь-ка меня по спине, — попросил Герман, пока Кирилл искал в кармане надушенный платок, дабы прикрыть нос. — Что-то у меня там то ли стреляет, то ли просто болит. Наверное, спал намедни в неудобной позе. Кирюш, что ты стоишь на пороге? Особого приглашения ждёшь? Раздевайся, садись за стол, раз заглянул на огонёк. Мужики, достаньте ещё один стакан. — Герман, я это пить не буду, — отказался Лаврентьев. — Тогда выметайся отсюда. Ишь, обществом рабочих людей брезгуешь! — Нехорошо это, — поддакнул Толя. — Считаешь нас отбросами, буржуй? — Или ты теперь за здоровый образ жизни? — продолжал глумиться Квятковский. — Вот только здесь такую твою позицию никто не поддержит. Кирилл зажмурился до разноцветных пятен перед глазами и сделал глоток из предложенного ему стакана. — До дна пей! — не успокаивался Герман. Гость доприкончил стакан. Собравшиеся зааплодировали. — Буржуй, а пьёт как простой мужик! — Друг, ещё налить? — Говори, зачем пришёл, — приказал Герман. Его сильно «вело», он неприкрыто лез на ссору. — А что у тебя со штанами? В коридоре, что ли, споткнулся, всю грязь с пола на них собрал? — Собрал, — невозмутимо кивнул Кирилл. — Только с пола театра, когда за тебя работу заканчивал. — Что? Ты за меня спину гнул? Кирилла пробрало мурашками от затылка по позвоночнику. Он снова вспомнил прошлое, хотя недавно дал себе зарок этого не делать и сосредоточиться на настоящем. — Кирюша, я больше никогда тебя не опозорю! Вот увидишь! Я буду играть в театре, прочту все книги, что ты мне советовал. И вообще, ты меня скоро не узнаешь! — обещает Герман и крепко-крепко обнимает своего возлюбленного. — И пить больше не буду, правда-правда! Вот мне предложат, а я проявлю характер, твёрдо скажу: «Мне Кирилл запретил!» Ты мне веришь? — Как же я могу не верить своему маленькому солнышку? — Гнул. А пришёл я за тобой. Пойдём домой, Герман. Герман предпочёл ничего не отвечать. Он вдруг почувствовал такую усталость, такое жуткое опустошение… Сколько времени они уже потеряли? Сколько ещё потеряют? Стакан выпал из его пальцев, на грудь словно надавила чья-то холодная и тяжёлая рука. — «Если ты сейчас отсюда не уйдёшь, то сдохнешь», — предостерёг его внутренний голос. Кирилл, пошатываясь, пошёл прямо к своему долгожданному избраннику. Герман насторожился и отодвинулся — он решил, что Лаврентьев силой заставит его подняться из-за стола. Но тот рухнул перед ним на колени, опустив голову. Все ахнули. Картина выглядела сюрреалистично, бредово, болезненно. Царственный, возмутительно красивый и богатый мужчина склонил голову перед голодранцем! — Что ты с собой сделал, Гермуся, — прошептал Кирилл и взял холодные, как лёд, руки Германа в свои — дрожащие и горячие. — Что я с тобой сделал… — он начал перебирать и целовать каждый палец, плавно перешёл на запястья и ладони. Квятковский откинулся на спинку стула. Его заштормило, но уже не от самогона. В голове началась война. Он боялся это видеть. В поцелуях Кирилла не было страсти, возбуждения, физического желания. Было лишь слепое обожествление, преклонение. — Перестань, пожалуйста, — едва шевеля губами, попросил Герман. Всё рухнуло. В который раз. Он и так жил в постоянном страхе, думая, что однажды его не просто обсмеют, оскорбят и отчитают, а изобьют, сломают пару-тройку рёбер и засунут ему в рот всё, что возможно засунуть. Этот страх иногда был просто невыносим, выжигал его до основания. В последние месяцы своего пребывания в Сибири он даже носил в кармане заточку. Он никогда ни с кем не знакомился, ничего «такого» не обсуждал, старался ничем себя не выдать. А тут снова появился Кирилл и подставил его под удар. Сам поздний визитёр вряд ли осознавал, что творил, теряясь между мороком и реальностью, а вот Герман понял, что теперь ему и здесь спокойной жизни не дадут. Таким мужики его не примут. — Кирилл, ты нас позоришь, — Герману удалось высвободить свои руки из плена поцелуев-бабочек, но легче ему, как и ожидалось, не стало. Жители общежития смотрели на сию сцену в немом шоке, как на восьмое чудо света. *** Герман открыл глаза и, прижав ладонь ко лбу, сел на диване. Он кое-что запомнил из вчерашнего вечера, но цельной картины в его голове не сложилось. Проклиная всё на свете, он пошарил под подушкой, но там оказалось пусто. — Доброе утро. — Твою мать, — испугался Герман и вжался в спинку дивана. — Кирилл, ты чего? Ты больной? Что ты со мной делал, пока я спал? Да я тебе сейчас… — Боюсь тебя разочаровать, но ничего, — Кирилл, как это часто бывало, говорил сдержанно, но твёрдо. — Видишь же, я одетый. Выражение лица Германа стало более дружелюбным и доверчивым, но он всё же съязвил: — Ой, да ладно! Долго, что ли, штаны снять, а потом обратно натянуть. — Герман, мне неловко это озвучивать, но, прошу, позволь мне быть рядом. Я не могу жить без тебя. Кирилл, который всё это время сидел на единственном в комнате расшатанном стуле, понурил голову и залился краской, как пятнадцатилетний гимназист на первом свидании. А Герман, услышав его признание, вновь осклабился, да так ядовито, что Лаврентьев ужаснулся. Нет-нет, это не его «наивное белокурое солнышко»! Гермуся не мог быть таким! — Гладко стелешь, Кирюша. Тебе так запали в душу мои чувственность и покорность? Ладно, бог с тобой. За две бутылки водки договоримся. Устроит? — И часто ты так договариваешься? Герману вмиг стало стыдно. Вот что к чему? Но сказанного не воротишь. — Никогда. Извини. Это я попытался пошутить. Но опохмелку всё-таки достань. Пожалуйста, Кирюш! Ну что тебе стоит? А то я сдохну! Поначалу Кирилл ничего не ответил. Он просто слушал своего избранника, и с каждым словом оного его лицо темнело и хмурилось, как небо перед грозой. — Гермуся, — наконец выдохнул гость, встав со стула. — Я всё ещё тебя люблю. Ты болишь у меня где-то внутри. Не представляю, что со мной будет, если с тобой, не дай бог, что-нибудь случится! И даже если ты всё переосмыслил и более ничего ко мне не чувствуешь — плевать! Во мне столько любви, что хватит не только на нас двоих, но и на весь мир! Меня положи на пепелище — так на нём цветы вырастут! — Отойди, — дёрнулся Герман, когда Кирилл попытался накрыть его тело ладонями. — Со мной сейчас лучше не связываться, — так было после каждой большой пьянки. На похмельную голову он часто говорил и делал глупости, и не хотел бы, чтобы это затронуло Кирилла. — Лучше сбегай за водкой. Сколько я ещё тебя буду упрашивать?! Мне на работу через час, а у меня, вон, руки дрожат! — Я не взял с собой деньги, — сквозь зубы процедил Лаврентьев. Он трогался умом, плохо понимал, зачем ему всё это нужно. В какие же дебри он лез, в какую грязь! С его-то больным сердцем! Разве так можно?! И Германа не спасёт, и сам погибнет! А что будет с Кирой, если их обоих не станет? — Тогда попроси у кого-нибудь из соседей. Я им на глаза после вчерашнего боюсь попадаться. Добрая половина общежития видела, как ты мне руки нацеловывал! Вот кто тебя просил это делать? Свинтус ты после такого, а не Кирюша! Кирилл ничего и никого не боялся, но уже решил, что пить Герман отныне не будет; тем более, с его подачи. — Если хочешь знать, я полночи за тобой ухаживал: подносил тебе воду, делал тебе примочки на лоб, открывал и закрывал вентиляции. А о мытьё полов в театре мне и вспоминать не хочется! Я устал и очень хочу есть. Пожалей меня, бога ради! Пойди мне навстречу, помоги нам обоим! — Я тебя ни о чём не просил, — Герман встал, подошёл к зеркалу и начал расчёсывать свои спутанные волосы. Но от мысли, что Кирилл мыл за него полы, на его лицо так и лезла глупая улыбка. Он был отдал руку на отсечение, чтобы увидеть это своими глазами. — А из еды могу предложить только хлеб. Больше для вашего высокоблагородия ничего не припасено. Но если бы ты предупредил меня о своём бы визите, я бы поставил на стол рахат-лукум на серебряном подносе. — Сколько яда в одном милом мальчике! — Оставь меня, Кирилл, — жалобно и бесполезно взмолился Герман. — Мне уже невозможно помочь. Я болен настолько сильно, что ещё не придумали точного слова, чтобы это описать. Я ничего не жду от жизни, кроме её окончания. Мне никто не нужен. Что было — то сплыло. Сохрани нашу историю в памяти как интересный опыт и двигайся дальше. — Как легко ты об этом говоришь! А как же Кира? Ты готов её навсегда оставить? — Ты мне её всё равно не отдашь. Да и зачем? Пусть остаётся там, где ей хорошо. — Сюда — конечно, не отдам. Но я хочу, чтобы ты жил с нами. — А я хочу нажраться, — хмыкнул Герман и, взяв куртку, вышел из комнаты. Пока он серой мышью шнырял вдоль коридора, боясь встретить кого-нибудь на пути, оставшийся в одиночестве Кирилл решил воспользоваться возможностью получше рассмотреть жалкое жилище своего непокорного венчанного супруга. Но, пробежав глазами по комнате, он так и не понял, чем Герман всё это время жил. Здесь не было ни масляных красок, ни книг, ни даже самого допотопного музыкального инструмента — ничего того, чем интересовался прошлый Гермуся. Только на прикроватной тумбочке лежали детские пинетки — по-видимому, раньше принадлежащие Кире, и на стене висел небрежно нарисованный портрет мужчины, в котором Кирилл вскоре узнал себя. Он так расчувствовался, что не сразу обратил внимание на второй портрет — на нём была изображена светловолосая, зеленоглазая женщина с дугообразными бровями. — «Это явно не работа Германа, — подумал Лаврентьев. — Стиль другой. Интересно, кто эта дама? Мать Киры? Вряд ли. Слишком взросло выглядит. Или мать самого Германа? Больше похоже на правду». Спохватившись, он выбежал вслед за возлюбленным — ещё не хватало, чтобы тот снова наклюкался! В коридоре он наткнулся на нескольких жильцов, но те ему ничего не сказали. Да Кирилл и не сомневался, что одна половина из них уже забыла о вчерашнем инциденте, а вторая — вовсе не взяла увиденное во внимание. Вряд ли этих людей вообще волновало что-то, кроме цен на водку. — Герман! — позвал Кирилл, выйдя на улицу. — Оставь меня в покое! — прилетело ему в ответ. Герман не успел далеко уйти, но успел взять у одного из мужиков самогон и опохмелиться. Вот только его настроение, вопреки ожиданиям, от этого не улучшилось. Внутри него по-прежнему расползались все швы, обнажая кровоточащие раны. — Таскаюсь за тобой, как ручной пёс, а зачем — сам не знаю! Гермуся! — повысил голос Кирилл. — Возьми мой шарф, укутайся! Ты ведь и так кашляешь! — Ты с меня пылинки будешь сдувать? А ты спросил, нужно ли мне это? Герман уверенно шёл в сторону рынка, но на полпути его остановил начальник, которого сам Квятковский попеременно называл то своим ангелом-спасителем, то старым козлом. — О, Матвей Семёнович! — воскликнул Герман и картинно поклонился. — А вы с рынка ковыляете? С проверкой, стало быть, приходили? Ой, я так рад вас видеть! — Квятковский, ты опять с утра пораньше глаза залил? — раздражённо бросил немолодой мужчина. — Я вас умоляю! Всего лишь чуток подлечился после вчерашнего! — Так больше не может продолжаться. Во-первых, какой пример ты подаёшь своим коллегам, а во-вторых, ты же имеешь дело с деньгами! А если кого-нибудь обсчитаешь? — Богачи в мой торговый ряд не заглядывают, а копейки я хоть вдрызг пьяным могу считать — чай не первый год за прилавком стою! — Нет, в таком виде я тебя на работу не допущу. — Неправильно поступаете, Матвей Семёнович. Рабочих людей полагается уважать! — Иди отсюда, пьянь! — Ах ты, козлина старая! — Герман, не надо! — наконец-то вмешался Кирилл, доселе находящийся в состоянии вялотекущего ступора. Он был далёк от этой стороны жизни, как Лима от Сингапура. Он никогда подобного не видел, даже книги о буднях неблагополучного слоя населения обходил стороной. Все эти диалоги, оскорбления, презрительные взгляды, плевки и пересчёт копеек — страшно, как ледяной шторм, недопустимо, как призывы к насилию, и мерзко, как кровосмешение! Но как ему пересилить себя, отпустить ситуацию и позволить Герману существовать так, как тому удобно?! — «Он тебя в такую чащу заведет, что ты взвоешь, — вновь зашептал Кириллу голос разума. — А потом тебя же во всём и обвинит! И будет прав! Он тебя ни о чём не просит, ничего тебе не обещает. Ты добровольно ввязываешься в этот кошмар, воображаешь себя каким-то Иисусом, способным любить не за что-то, а вопреки всему, и жертвуешь всем, чтобы остаться наедине со своим трудным счастьем! Сколько лет прожил, а ума так и не нажил!» — И где справедливость? — вскричал Герман. — Нет справедливости, Гермуся. В страшном мире живём, — ответил Кирилл и попытался взять его под руку. — Козлина старая! И ты — козлина! И все вы… Чего вы все меня ненавидите? — Герман шмыгнул носом и закрыл лицо руками. Он находился в двух шагах от нервного срыва, на это ясно указывала его постукивающая от пробившего всё тело раздражения челюсть. — Я что, хуже остальных? Отброс жизни? — Что ты говоришь, дурашка! Ты чудесный! Ты единственный в своём роде! Ты как само счастье — тёплый, ласковый! А какой талантливый! Это ведь мой портрет висит в твоей комнате? Правда? Я сразу себя узнал! А женщина на втором портрете — твоя мама? Герман вдруг вытянулся, как гитарная струна, и посмотрел прямо на своего распалённого радетеля. — Как ты угадал? Моя мама… О ней так давно никто не вспоминал и не говорил! Будто её никогда не существовало! Она ушла в самом расцвете сил, а на земле словно бы ничего не случилось! — Я не знаю. Я просто увидел портрет и что-то почувствовал. Но я уверен, что твоя мама была такой же хорошей, как и ты. Она тоже что-то создавала. Правильно? Рисовала или писала… А может, и то, и другое! И она тебя очень любила, хотя и не всегда это показывала. Верно? Герман бросился к Кириллу, прислонился к его сильному плечу и зарыдал уже навзрыд. Впервые за долгое время он мог не притворяться и не сдерживаться, зная, что чувства разделял понимающий человек. А снег всё кружился над макушками деревьев и укрывал землю белым покрывалом. А Герман изо всех сил стискивал мех чужой шубы в замёрзших пальцах, и плакал, плакал, плакал… *** — По одежке только встречают, а провожают по уму, которого мне не занимать, — сказал Герман, когда Кирилл открыл перед ним дверь ресторана. — Ой, да и как встречают, неважно, главное, чтобы не выгнали! Подумаешь, штаны порваны! Я мог порвать их по пути сюда, споткнувшись о бродячую собаку! И что такого, что ботинки заляпаны грязью, хотя повсюду снег? Может, я недавно приехал из тропической страны, где неделю лили тёплые дожди! А уж что у меня царапины на лице и колтуны в волосах — это вовсе никого волновать не должно! Пусть скажут спасибо, что я помыл руки и вылил на себя полфлакона дешёвых духов, чтобы отбить запах рыночной квашеной капусты! — Как же я по тебе соскучился, — с улыбкой прошептал Лаврентьев. Он не знал, как втолковать этому золотому, изумительному мальчику, насколько он, сильный, взрослый и авторитетный мужчина, не принадлежал себе, а принадлежал ему. Как убедить милого, славного Германа, что только ему он был готов посвятить все свои победы, мечты, воспоминания и внутренние вихри? — Я обустроил для тебя комнату. А ещё купил тебе много масляных красок, мольберт и новый рояль — красивый, мощный, с бархатным звучанием. Пожалуйста, сыграй мне что-нибудь на нём. Непременно сыграй, мой хороший, дорогой, необыкновенный! Я уже готов считать минуты до этого события! Ничего, что ты со мной резок и грубоват. Я это перетерплю, главное, не уходи. Герман сел за первый попавшийся стол. Он старался придерживаться образа разбитного шутника, но краснел, когда Кирилл смотрел ему в глаза. — Твоё лицо сейчас, прямо как в юности, приняло совершенно очаровательное выражение, — заметил последний. — Такое застенчивое, чуть испуганное. — «Нет, Кирилл — не мой бывший мужчина, не моё прошлое, — вынужден был признать Квятковский. — Он — тот, кого я всегда буду помнить и любить, независимо от обстоятельств. Мои руки — это его руки, моё сердце — это его сердце, и все мои мысли пропитаны им, как каждое слово молитвы пропитано светлой надеждой. Может, позволить ему помочь мне?» — Кирилл, я болен, — сказал он вслух. — Я заметил, у тебя кашель. — Не только. Ещё бывает лихорадка по вечерам. По-видимому, у меня тяжёлое воспаление лёгких. — Болен — вылечу. Не хочешь жить — заставлю. Поедем в Южную Францию, там климат лучше. Герман безразлично повёл плечом. К чему ему Южная Франция? Там, правда, не будет изнуряющей работы, но и водки тоже не будет. — Но на самом деле, даже Южная Франция с её замком Фуа, башней Трезо и катарской ересью — не такая красивая и великая, как ты. Я не прошу тебя относиться ко мне так, как я отношусь к тебе, но мне будет приятно, если ты надолго запомнишь мои слова. Герман замечал, какими взглядами его одаривали другие посетители ресторана, но не испытывал неловкости. Наверное, уверенность Кирилла передалась ему по каким-то невидимым каналам. Зато он залился краской, когда Лаврентьев зачем-то представил его подошедшему официанту: — Это Герман, и он очень важный гость. — Очень рад, — кивнул прыткий молодой человек. Он решил, что над ним пошутили: если этот непримечательный визитёр и мог где-то сойти за важную персону, то только на мусорке — с такой-то одеждой! — Вы неправильно его поприветствовали, — казалось, от тона Кирилла во всём помещении стало морозно. — А как… правильно? — Вот так. Опередив рокочущее «Кирилл, не надо», Лаврентьев чуть подался вперёд, взял руку возлюбленного в свою и поцеловал — нежно, полупьяно и сладко. У Германа кольнуло в животе, он вжался в стул и, почесав красную, как рябина в сентябре, щёку, промолвил: — Пошутили и хватит. Вы, молодой человек, не подумайте дурного. Мой друг, видимо, переборщил с алкоголем. С кем не бывает! — «Со мной не бывает, — подумал официант. — Я спьяну частушки пою, а не руки друзьям целую», — но вслух ничего не ответил, лишь улыбнулся. Во время трапезы Герман вёл себя тихо и даже не докучал остальным присутствующим, лишь однажды недобро посмотрел на какую-то женщину, которая уж очень залюбовалась Кириллом. Аппетита у него не было, но он всё равно накладывал на тарелку большие куски и смачно отхлёбывал чай — пусть Кирюша порадуется. Постепенно обстановка из натянутой перетекла в непринуждённую. Герман расслабился от чая и тепла помещения, да и выпитый в начале дня алкоголь дал о себе знать. От скуки он начал толкать под столом ногу Кирилла. Тот не остался в долгу, и завязалась небольшая подстольная «драка», результатом которой стали две опрокинутые кружки и соусник. Взгляд Кирилла тут же изменился и уже не сулил ничего хорошего, а Герман решил в срочном порядке перевести разговор в иное русло: — Кирилл, отгадай загадку: ты помни его немножко, станет твёрдым, как картошка! — Герман! — А что «Герман»? Это снежок! А это отгадаешь? На кровати стону громко, одеяло даже взмокло, по телу пробежался жар, ведь приснился мне… — Кошмар, — машинально закончил слушатель. — А как ты догадался? Голова-то соображает! Кирилл, а продемонстрируй мускулы! Ну пожалуйста, что тебе стоит! А сможешь меня побороть? Давай, на руках! — Гермуся, я не буду с тобой бороться. — Боишься, что силёнок не хватит? Да я тебе поддамся! Из уважения к твоему возрасту, — Герман уже открыто веселился. — Сам напросился, чертёнок. Только не над салатом. Давай немного отодвинемся. Стоит ли говорить, что поддался в итоге Кирилл? А Герману только это и было нужно. Он удовлетворённо откинулся на спинку стула и чванливо заявил: — А как ты хотел? Я этой рукой лопату держал, землю обрабатывал! От воспоминаний о ссылке его настроение ухудшилось. Ему очень захотелось пожаловаться Кириллу на свою жизнь, поведать такое, чего тот не мог вычитать ни в одной книге и увидеть ни в одном спектакле. — Ты знаешь, Миша умер. С лица Кирилла мигом схлынула тихая радость. — Умер? Господи! — Он был хорошим, — больше всего на свете Герман сейчас пожалел о том, что на столе не было водки. — Человечным, понимающим. Да, воровал сумки у своих товарищей по несчастью… Ну и что! Это ведь не от хорошей жизни! Что в тех сумках было-то! Штаны и рубашонки! Иногда ещё сухари и мыльные принадлежности. Я всем этим всегда был готов делиться со всеми желающими совершенно безвозмездно! Вот ещё, такие пустяки прятать! Но остальные не были со мной согласны. Загубили человека из-за тряпок. Сильно избили, он и не выжил. — Сочувствую твоей утрате, — горестно отозвался Кирилл. Он почти не знал Мишу, но был благодарен ему за то, что тот скрасил будни Германа в неприветливой Сибири. — Светлая, вечная память. — Надо помянуть мученика. По лицу Кирилла было видно, что в нём устроили борьбу здравый смысл и уважение к традициям. Он понимал, что если не позволит Герману помянуть его единственного друга, тот затаит на него обиду и обвинит в бессердечности. Но если позволит — вообще неизвестно, чем это обернётся. — Хорошо, я закажу водку. Но только две рюмки: пригубить, чисто символически. Герман вспомнил, что совсем недавно Кирилл говорил, что не мог купить ему опохмелку, потому что не взял с собой деньги, но, когда дело дошло до ресторана, деньги сразу нашлись. Вот лживый прохиндей! — Как поживает Сергей? — Хорошо. Полгода назад во второй раз стал отцом. — Слава богу, — искренне улыбнулся Квятковский. — А Вениамин? — Нормально, — ответил Кирилл и тут же, наткнувшись на ершистый взгляд возлюбленного, мысленно дал себе по лбу. — Или не очень. Не знаю, я не интересуюсь его жизнью. — Да неужели? По-моему, ты врёшь. — Герман, я не… В первый год после твоего отъезда мы частенько общались, не скрою. Но подчеркну — только общались. Но потом он стал навещать меня всё реже, чему я был только рад. И вот, уже полгода не появлялся. Я поэтому и думаю, что с ним всё в порядке. Если бы что-нибудь случилось, он бы точно о себе напомнил — такой у него характер. — Я выйду. Мне нужно подышать свежим воздухом. — Я с тобой. Подожди, Гермуся, выход в другой стороне! Но Герман не услышал своего спутника. Стремясь как можно скорее оказаться подальше отсюда, он вскочил с места и умудрился налететь на официанта, который именно в этот момент нёс на дальний столик жареную курицу. И если сам молодой человек устоял на ногах, то блюдо выпало из его рук и разбилось. Осколки так усеяли нечастную курицу, что та в мгновение ока стала похожа на ёжика-переростка. — Ой, мамочка, — пискнул Герман. — Простите, пожалуйста! — Вы что, слепой?! Или калека с детства?! — взревел официант. — Нет. — И откуда вы здесь взялись! — Понимаете, я из тюрьмы, — обстоятельно объяснил Квятковский. — Я весь год себя хорошо вёл, не жаловался на холодную похлёбку и чёрствый хлеб, не играл в карты на деньги и не обчищал карманы охранников, вот вышестоящие и отправили меня в ресторан, чтобы я в кои-то веки вкусно пообедал, а заодно послушал разговоры приличных людей и повысил свой культурный уровень. А вот там сидит мужчина, которому поручено за мною присматривать, — рассказчик выразительно кивнул в сторону Кирилла. — Но он плохо справляется. Подойдите к нему и отчитайте! Но подойди к Кириллу официант не решился. Да и вопросов к самому Герману у него поубавилось. Он лишь пробормотал: «Неужели так бывает? Впервые услышал!» и позвал кого-то, чтобы убрать осколки. Герман снова взглянул на Кирилла. Тот смеялся в кулак. *** Герман вернулся к своему единственному возлюбленному совсем слабым и больным. Он много спал и едва мог стоять на ногах. Приехавший в усадьбу доктор долго осматривал его, слушал стетоскопом, стучал молотком по его исхудалой груди, важно хмурил брови, что-то бубнил себе под нос, а затем вынес неутешительный вердикт: — Звук у левого лёгкого сильно притуплён. Почему вы не обратились за помощью раньше? Герман промолчал. — Вы работаете? И если да, то где? — Какое это имеет значение? — Вам сейчас противопоказаны любые нагрузки. Избегайте сквозняков и тяжёлой пищи, откажитесь от всех вредных привычек. Было бы хорошо некоторое время провести в больнице… Герман побелел так, что его лицо слилось со штукатуркой на стене, и позвал Кирилла. Тот появился мгновенно — должно быть, всё время стоял около двери. — Кирилл, я не хочу в больницу! Пожалуйста, что угодно, но не это! Я умру там! — Всё будет хорошо, — успокаивающе промолвил хозяин дома. — Знаете, доктор, Герман Александрович очень плохо переносит больничную атмосферу. Я боюсь, что ему там станет хуже. Лучше просто напишите рекомендации по выздоровлению… — Я никуда не поеду! — метался Герман. — Не поедешь, — кивнул Кирилл. — Я буду лечить тебя дома, — и посмотрел на своего избранника, будто оценивая поле предстоящей битвы. И пошло-поехало. Отвары, компрессы, мази, странные маленькие таблетки, порошки на случай тошноты, масло, которое нужно было капать в нос в указанной последовательности, фрукты и молоко с мёдом для общей пользы, тёплый халат и носки для сна, колпак на голову после ванны, шарф для редких выходов из дома, даже в солнечную погоду… Колпак Герман особенно не любил и неоднократно просил Кирилла выкинуть «это убожество», но тот не соглашался и с завидной ловкостью надевал на него головной убор после каждых водных процедур. Да ещё и приговаривал: «Сшит колпак не по-колпацки, сшит он как-то по-дурацки!» Это было просто невыносимо! Мылся Герман исключительно в воде, температура которой была не выше тридцати шести градусов, питался едой, которую Кирилл охарактеризовал как «калорийную, но легкоусвояемую», что тоже приносило больному немало страданий. С каким наслаждением он бы слопал кусок шоколадного торта или полпачки сухариков с острыми специями! Но получал только мясные бульоны, отварную рыбу, творог, фрукты и орехи! При этом из рыбы Кирилл всегда собственноручно выбирал кости, а фрукты обдавал кипятком по появления на них коричневых пятен. — Ешь, не рассматривай, — говорил он, если Герман начинал ковырять «ожоги» ногтем. — Я скорее сам сырой земли наемся, чем тебе что-нибудь плохое дам. Не хочешь яблоки? Тогда абрикосы бери. И голову не опускай, масло из носа вытечет. Герману было неловко от этой чрезмерной заботы, он тяготился ею и втайне жалел, что не остался в общежитии. Но уйти прямо сейчас было бы всё равно что предать Кирилла, поэтому он позволял своему новому старому покровителю делать всё, что тому взбредёт в голову. — Вот, ешь. Безо всяких разговоров, — говорил Кирилл, ставя на стол тарелку с гурьевской кашей. — Ты раньше её очень любил. Герман безразлично смотрел на белую массу, щедро сдобренную мёдом, орехами и сухофруктами. Он, может, был бы и не против это съесть, но на обед. По утрам у него не было аппетита. А Кирилл напирал: — Я знаю, что ты хотел бы зайти в столовую не раньше трёх часов дня, но начинать есть в такое время — ненормально. У тебя перед этим должны быть завтрак и полдник. — Не дави на меня, пожалуйста. — Гермуся, я всего лишь пытаюсь донести до тебя очевидные вещи. Но пока всё бесполезно. Увы, я в твою голову свои мозги не вставлю. Орехи в следующий раз сам куплю. Прислуге ничего нельзя доверить! Как стадо баранов! Что они принесли? Не орехи, а мелочь! Кухарка и другие работницы и работники уже не знали, куда спрятаться от претензий барина. — Разговаривала намедни с Кириллом Ювенальевичем, — жаловалась стряпуха. — Снова услышала, какой Герман Александрович больной-разбольной и нежный-пренежный. То ему нельзя, это нельзя. Ни жирного, ни острого, ни солёного! Котлеты — только без добавления хлеба, компот — исключительно из смородины или абрикосов, другой наш принц не пьёт. В кашу натирать яблоки, про масло не забывать, но не перебарщивать… — Хорошо, что Кирилл Ювенальевич пока постоянно здесь, — перебил её лакей. — А если ему нужно будет уехать? Что мы тогда с его подопечным будем делать? Целыми днями носиться за ним, как курицы-наседки? Барин со мной об этом уже разговаривал. Как показал мешок мазей и таблеток, я аж за голову схватился! И всё нужно давать в определённом порядке! Боже упаси! — Дался барину этот чахотик! Лучше бы о Кире так заботился. Девочка какая-то неприкаянная. Да и Герман Александрович тоже хорош! Неужели не понимает, что поселился не у того человека? Со свиным рылом в калашный ряд полез! А Кира действительно сделалась беспокойной и какой-то неустроенной. Малышка чувствовала, что в доме происходило что-то нехорошее, и считала себя здесь лишней. К появлению нового члена семьи она отнеслась прохладно, а когда Кирилл сказал, что этот странный молодой человек — и есть её родной отец, даже расстроилась. Не таким она представляла «самого лучшего» папу. Сам Герман поначалу тоже не стремился проводить время с дочкой. Во-первых, боялся её заразить — организм-то детский, слабенький, а во-вторых, как-то… робел перед ней, что ли. Она уже была не его. Нет, черты лиц-то у них по-прежнему были общими, но в остальном… Кира переняла очень многое от Кирилла: любовь к нарядам и украшениям, интерес к посиделкам и гостям, стремление питаться всем самым лучшим и дорогим, утонченный музыкальный и литературный вкус. Кирилл говорил, что Герман забивал себе голову чепухой, что на самом деле Кире всё равно, что носить, что гостей она любила только из-за возможности бедокурить в их присутствии, а интерес к искусству ей как раз передался от отца, но Квятковский видел, что Кира уже слишком жеманная, породистая, умная и холёная — обладающая всеми теми качествами, которые он так и не приобрёл. И что ему делать рядом с ней? Чем её завлекать, о чём заводить беседы? Но постепенно Кира сама начала делать шаги навстречу к своему бедовому отцу. — Какую музыку ты любишь? — однажды спросила девочка. — Весёлую или грустную? — Грустную, — ответил Герман. — Как и я! Это судьба! А ты любишь булочки с малиновым вареньем? — Да, очень. — Точно судьба! — А тебе нравятся русские — народные сказки? «Морозко», «По щучьему велению», «Маша и медведь»? — Нравятся! Особенно про Иванушку-дурачка и Никиту Кожемяку! — Уже три судьбы, Кирочка! Со временем Кира прекратила сторониться блудного родителя, хотя и называла его пока по имени. Папой — стеснялась. Ей, видевшей в усадьбе только прислугу, а иногда ещё дядю Серёжу и манерных гостей из соседних поместий, стал любопытен этот ни на кого непохожий человек. А, поговорив с Германом ещё немного, Кира поняла, что тот разбирался в искусстве даже лучше Кирилла, и окончательно пришла в восторг. У неё появилась родственная душа! Но при всём этом отношения Германа и Кирилла нельзя было назвать романтическими. Герман держал дистанцию и часто не позволял себя не только ласкать, а даже просто прикасаться. Стоило Кириллу положить ладонь на его талию, как он отстранялся со словами: «не нужно» или «мне щекотно». Кроме того, он никогда не выходил из своей комнаты в нательном белье или в полупрозрачной рубашке — всегда стремился надеть всё потеплее и подлиннее. Кириллу было страшно, ибо так часто вели себя либо жертвы насилия, либо люди с серьёзными душевными расстройствами. Но Герман уверял, что с ним всё в порядке, что его никто не брал силой, просто он «отвык, стесняется и пока не готов». Кирилл принимал это и не навязывался. Перед тем как сделать своему возлюбленному комплимент, Кирилл мысленно несколько раз проверял его на отсутствие слов, которые Герман мог бы посчитать пошлыми, но сдался, когда на безобидную фразу «ты сегодня очень хорошо выглядишь: взгляд ясный, цвет кожи свежий» Квятковский отреагировал ещё большим отчуждением. Однажды Кириллу удалось положить голову на колени своему избраннику и покрыть их поцелуями, но подняться выше Герман ему не дал — дёрнулся, запахнул халат и спрятал лицо в ладонях. Но краем глаза Лаврентьев приметил, что на алебастровое, почти подростково-невинное лицо Гермуси бросило тень хорошо знакомое им обоим дьявольское сладострастие. От алкоголя Квятковскому, конечно, пришлось отказаться, как и от курения. От запаха дыма он задыхался, и Кирилл теперь тоже доставал папиросы только на улице, подальше от своего подопечного. В первые недели Герман пробовал прятать шкалики с водкой под матрасом и в книжных шкафчиках, но Кирилл об этом быстро узнал и прямо сказал, что если ничего не изменится, ему придётся просить прислугу каждый день устраивать в комнате обыск, переворачивая всё вверх дном. Герман был сам не свой. Пробуждение от подлого хмельного угара оказалось мучительным. Бедолаге было стыдно не только за себя, но и за Кирилла; за то, что тот решил держать при себе подобную личность, похожую на уродливого, всеми оплеванного пса с перебитыми лапами, который, поскуливая и повизгивая, приполз на чужой порог. Приполз, чтобы умереть. — Тепло-то как, — часто вздыхал Герман, кутаясь в одеяло. — Никак не могу привыкнуть. Иззябся я за всю свою жизнь! По вечерам он что-нибудь читал, писал или рисовал. Если Кирилл замечал, что во время творческого процесса его подопечный становился беспокойным — начинал кусать ногти, ходить из угла в угол и ругаться, он наливал ему чай с ромашкой или лавандой. Герман морщился, но пил. В один из дней, когда на душе было совсем погано, Герман на свой страх и риск попросил одного из прислужников принести в усадьбу самогон. Тот согласился, но через час, когда Квятковский сидел у камина и, прикладываясь к кружке, размышлял о своём прошлом, к нему подошёл Кирилл. — Что пьёшь, горе моё? — зло поинтересовался хозяин дома. — Чай, — соврал Герман. — Что ты тут делаешь? Я думал, что ты уже спишь! — Дай-ка глотнуть. — Он очень сладкий и горячий. Тебе не понравится. — Ничего, я хочу попробовать. Герман сжался в комок, когда Кирилл отхлебнул из кружки. — Ну ты и зараза, — прошипел Лаврентьев и выплеснул остатки самогона прямо в камин. Его глаза застелила ярость, а в голову полезли нехорошие мысли: — «Гад, всю жизнь мне испортил! Такому идиоту, как я, было очень просто испортить жизнь! Смотрю, ему нравится меня мучить! Ну ничего… Я помогу ему, как и обещал, приведу его в надлежащий вид и уйду. И меня никто не остановит! Я больше не стану унижаться! Отвечу на равнодушие равнодушием. Свалился на мою голову, алкоголик! Какого чёрта я так и не смог его забыть?! Он словно отравил меня своими ясными, узнаваемыми и неповторимыми глазищами!» — Будешь кричать? — Нет. Но когда ты уже поймёшь, что я не дам тебе себя загубить? Своего незадачливого «помощника» Герман больше в усадьбе не видел, а контроль за ним, олухом царя небесного, только усилился. В доме то и дело раздавалось: «Где ты так вспотел? Опять за Кирой по двору носился? Я ведь уже просил тебя этого не делать! Прошу в последний раз, потом придумаю наказание!», «Что ты сегодня ел? Одну порцию варёной курицы и овощей? Это триста грамм. Мало, нужно ещё перекусить», «Дышишь так же тяжело? Подойди ближе, я прислушаюсь. Да не бойся, не съем», «Жар? Погоди, сейчас принесу компресс», и прочее, прочее, прочее… *** Вениамин напомнил о себе очень неожиданно, в тот день, когда солнце слепило особенно ярко, в чистом воздухе пахло еловыми шишками и дымом костра, а ребята на площади с радостными криками бросали друг в друга снежки. Мороз и солнце; день чудесный! Прибыл гость налегке, без сумки и презентов, посему было понятно, что свой визит он не планировал заранее. Кирилл, который всю минувшую ночь читал медицинский справочник, изредка прерываясь, чтобы зайти в комнату к Герману и проверить, не поднялась ли у того температура, встретил своего бывшего любовника с явным недовольством; даже не пригласил его в столовую и мигом выпроводил на террасу. — Вениамин, у меня мало времени, — холодно пробубнил Кирилл. — Говори быстрее, зачем пришёл. Вениамин обжёг его удивлённым взглядом, прошёлся по нему с головы до ног и остановился на лице. Кирилл выглядел уставшим, но не грустным. Если бы он хоть немного поспал, всё было бы иначе, но с недавних пор сон стал для него непозволительным удовольствием. — Кирилл, это очень грубо, — справедливо возмутился Ворошилов. — Ладно, прости. Я не хотел тебя обидеть. Так что у тебя случилось? — По-твоему, я не мог приехать просто потому, что соскучился? — Не мог. Ты скучать-то не умеешь. — Ну хорошо! Понимаешь, у меня такая ситуация: один из моих любовников из-за ревности избил другого. Можно у тебя пожить? — Что? — шестеренки в голове Кирилла пока отказались сходиться. — Можно помедленнее и поподробнее? — Не веди себя как тугодум! Борис Анатольевич застал меня с Серёжей Артамоновым и набросился на него с кулаками! Я полез их разнимать и тоже попал под горячую руку! — Вениамин коснулся своей нижней губы, которая от удара стала чуть пухлее верхней. — Теперь я не знаю, что делать! Отношения с этими мужчинами у меня безнадёжно испорчены! За один вечер я лишился двух шикарных покровителей! Раньше-то Борис Анатольевич оплачивал мою съёмную квартиру, а сейчас что? Самому за всё придётся платить? Я к такому не привык! Нет, деньги-то у меня есть, но не тратить же их на такие пустяки! — Переезжай к матери. — Этот вариант у меня припасён на самый крайний случай. Понимаешь, моя мать — не особо старая, привлекательная женщина. И как я буду приводить мужчин в её дом? Делиться, что ли? Вениамин рассмеялся, а Кирилл измождено поднёс ладонь ко лбу. — Веня, откуда ты берёшь всю эту… Я даже не знаю, как выразиться! Ерунду на постном масле! У тебя в голове есть хоть что-то, кроме мужчин, денег и нарядов? — А у тебя? Если я такой плохой, как ты прожил со мной несколько лет? Кирилл, мы одинаковые. Только я смог принять себя, а ты — нет. Да, я — такой, какой есть. Не всем дано быть сильными и независимыми, слабые и зависимые тоже нужны миру. А ты всё корчишь из себя того, кем никогда не являлся. Монолог Вени был очень неприятным. Прилагательное «одинаковые» поразило нутро Кирилла, как гарпун. — Врёшь. Разные. Я любить умею. — Я тоже. Себя. А ты — кого? Своего уголовника? Вот только это тебе никак в жизни не поможет. Обида и злость в глазах Ворошилова смешались с тревогой. Ему захотелось обозвать Кирилла идиотом, помешанным и зависимым, приплести к этому сотню заболеваний тела и души, и говорить долго, без остановки, даже не набирая воздуха в лёгкие. — Он вернулся? — догадался гость, поймав на ладонь одну из множества кружащихся в воздухе снежинок. — Но что-то я не вижу радости на твоём лице. Снова пытаешься вылепить из него подобие приличного человека? А что получаешь взамен? Плотские утехи? Которые тебе наверняка ещё приходится выпрашивать. — «Мы с ним даже не спим, — мысленно засмеялся Кирилл. — Я просто исполняю роли его доктора и надсмотрщика», — но рта не раскрыл. Пусть Вениамин выскажется и хоть кому-то покажет свой характер, а то престарелые покровители его совсем задавили. — Ты пашешь на него ради своих полудетских иллюзий о чистой любви… — Что значит «пашешь на него»? Люди заботятся друг о друге и трудятся ради семьи и общего дела. Не всё на свете упирается в материальные ценности. Твоя мать ведь тоже когда-то любила твоего отца. Она позволяла себе говорить, что «пахала» на него? Или наоборот? Это просто в голове не укладывается! Давай не будем тратить время на пустые споры. Мы говорим на разных языках. Ты спрашивал, можно ли у меня пожить? Нет, нельзя. Если у тебя всё, счастливой дороги. — Я всё это говорил как человек, которому ты долгое время был небезразличен. То, что ты снова хочешь спасти этого обормота, — это не страшно. Но страшно то, что всё связанное с ним — не твой путь. Это разрушение, деградация! Думаю, ты ещё вспомнишь мой монолог. Удачи, Кирилл. Кириллу показалось, что слова гостя грязью осели на фасадные панели террасы. Он не пошёл, а скорее поковылял в дом, чувствуя себя немощным стариком. До этого вялая головная боль резко усилилась, будто кто-то заставил его удариться лбом о стекло. Герман уже проснулся и даже соорудил себе подобие завтрака. При взгляде на него Кирилл ощутил тепло. Так вышло, что тело и сердце последнего могли существовать отдельно друг от друга. Тело — это что-то абсурдное, глупое и полное изъянов. А сердце — вот, красивейшее, добрейшее, светлейшее. Ведь правда, у Германа даже личико в форме сердечка, с острыми скулами, узким носом и отуманенным взором. — О, ты решил поесть! — возрадовался Кирилл. — Сам! Наконец-то! Тебе получше? — Я захотел есть ещё в пять утра, — признался Герман и перевернул страницу лежащей рядом с тарелкой книги. — Но мне было трудно подняться с постели. А сейчас нашёл силы. — Почему меня не попросил? Подожди, а что ты ешь? Пельмени? Герман, это не самый лучший вариант завтрака. Не хочешь кашу и творог? — Не хочу, — заупрямился Квятковский и щедро полил пельмени острым соусом. — Куда так много льёшь! Это уже какой-то суп получится! — Ой, я вправду переусердствовал. Лучше новую порцию пельменей сварю. — Давай сюда, я съем. А перца-то сколько! — И персики доешь, пожалуйста, а то они загнивают. Кирилл махнул рукой. Всё это было съесть явно проще, чем початок варёной кукурузы, который Герман купил в торговой лавке во время их последней прогулки неподалёку от дома. В итоге он надкусил пару раз и скривился: «Нет, мне такое не нравится». Кирилл тоже не был в восторге от этой покупки, но доел початок только чтобы не огорчать Гермусю, которому в противном случае было бы жаль впустую потраченных денег. — Ты голых мужчин рассматриваешь? — приподнял брови Лаврентьев. — Чего? — удивился Герман, но тут же расхохотался, поняв, что Кирилл посмотрел в его книгу. — Это книга с репродукциями известных картин. Вот здесь — полотно «Аполлон и Дафнис» авторства Пьетро Перуджино. — А почему они без одежды? — Да откуда мне знать, — Герман торопливо перевернул страницу. — А это что? — Вот, тут написано. «Любовная сцена» Джулио Романо из собрания Государственного Эрмитажа. — Ого-го! — Опять похабщина! Давай листать до тех пор, пока не найдём что-нибудь приличное! Пока Герман полыхал щеками, Кирилл лукаво сверкал глазами. Последний знал и эту книгу, и все залитографированные там картины, но ему очень нравилось наблюдать за смущением Гермуси. — О, «Тайная вечеря»! Вот этим можно полюбоваться! — Лучше бы ты мною полюбовался. Герман спрятал полуулыбку в кружке с чаем. — Кирилл, сыграешь мне что-нибудь на гитаре? Лаврентьев тотчас воспарил духом. Заинтересованность во взгляде и голосе Германа — всё, что было нужно ему, Кириллу, чтобы почувствовать себя человеком. — Ты, наверное, забыл, что у меня нет гитары. Но я могу её купить! — Нет, не суетись! — У меня есть балалайка. Хочешь, на ней сыграю? — Хочу! — А ты что-нибудь споёшь? Герман снова хрипло засмеялся. Когда Кирилл был рядом, ему казалось, что он хоть на толику мог справляться с жизнью так, как это делали другие. Да, сам он всё ещё ни на что не влиял и не открывался изменениям, но с Кириллом это не вызывало у него первобытного ужаса. — Таблетки выпил? — спросил Лаврентьев. Герман ощутил приятную прохладу на коже, когда Кирилл поцеловал его в щёку. — Выпил. Таблетки Герману поднадоели, но запихивать их под скатерть или под мешок с травами он больше не решался — хватило того раза, когда Кирилл поймал его с поличным и затаил обиду на целую неделю. — Ты чувствуешь себя защищённым? — полюбопытствовал Кирилл. Герман взглянул на него с недоумением: что к чему? Но Кирюша смотрел так, словно от ответа на этот вопрос, от будничного «да» или «нет», зависела вся его жизнь. — Да, конечно. — Для меня это самое главное. Спасибо. *** Жизнь в знакомом доме, но в новом статусе тяжелобольного оказалась для Германа куда более скучной штукой, чем можно было представить. Обычно Кирилл отправлял своего подопечного спать в десять вечера. — В восемь утра придёт доктор, тебе нужно выспаться, — объяснял он. Сначала столь ранний сон казался Герману невозможным, но мало-помалу он привык к обновлённому режиму и с наступлением сумерек уже зевал и тёр глаза. Но если визита доктора утром не ожидалось, Кирилл позволял Герману сидеть с ним в гостиной до полуночи. Кирилл пил чай, перелистывал книги или заполнял какие-то бумаги, а Герман почёсывал натёртую колючим шарфом шею, хрустел хлебными палочками и глазел то на хозяина дома, то в окно. Однажды Герман ел мятные леденцы, а Кирилл вдруг почувствовал лёгкие покалывания в затылке и распространяющиеся от плеч к рукам мурашки. Сразу мужчина не понял, что вызвало у него такую реакцию, но потом осознал, что дело в шелесте обёрток и в твёрдости карамели, сталкивающейся с зубной эмалью. — Какие приятные звуки, — сказал Кирилл. — Расслабляющие и сладкие. — Правда? — удивился Герман. — Да, прямо как ты сам. Если осенью Кирилл как соловей лета ждал ответных писем от Гермуси, то сейчас так же ждал момента, когда их губы вновь соприкоснутся. Даже по ночам ему не давали покоя до жути реальные сны, в которых Герман заходил в его кабинет, садился на стол, закидывал ногу на ногу и многообещающе улыбался. Кирилл понимал, что сам должен сделать первый шаг, но хотел, чтобы всё было иначе, чтобы Герман сам к нему потянулся, сам определился, когда ему полностью довериться. — «Вот только есть вероятность, что он уже никогда не потянется, — иногда горько думал Лаврентьев. — Он стал таким же диким котёнком, каким был в день нашего знакомства. Он сильно тяготится моей заботой и считает меня чуть ли не врагом». Но всю следующую неделю, как только солнце скрывалось за горизонтом, Герман садился рядом с Кириллом и ел леденцы. Его язык опухал, десна становились слишком чувствительными, но он не обращал на это внимания и приносил ещё больше долгоиграющих конфет. Когда Кирилл понял, что Герман делал это ради него, то даже не знал, посмеяться ему или расплакаться. И решил действовать, но не напористо, страстно и быстро, а медленно и осторожно. Первые попытки не увенчались успехом. За время своего затворничества Кирилл отвык от любовных дел и подзабыл правила ухаживаний. Да и с Германом это всегда было сложнее, чем с другими. Кирилл взял за правило всегда открывать перед своим избранником дверь, но даже тут опростоволосился: после очередной прогулки в саду он забыл, что Герман шёл позади него, и захлопнул дверь так, что та едва не прищемила бедолаге нос. А когда решил повесить пальто Квятковского на крючок, от растерянности уронил его на пол. Герман тогда засмеялся, а Кирилл, приговаривая: «какой же я дурак!», наклонился, чтобы поднять предмет чужого гардероба, но умудрился на него наступить. Но многое расставил по местам вечер, когда мужчины решили посидеть на террасе и полюбоваться закатом; в египетской мифологии это явление описывалось как регулярная гибель Осириса, который затем возрождался. Природа воплощала свою лучшую цветовую симфониетту, подобно великому художнику. В безмятежном, непокорённом и величавом небе разлились как нежные, розово-лиловые, так и огненно-красные оттенки. На снегу лежали синеватые тени, дышалось свежо и углубленно. Кира сидела за маленьким столиком и рисовала натюрморт — вазу с цветами и фрукты. Герман периодически вытягивал шею и приподнимался со своего места, чтобы посмотреть на работу дочери. Что и говорить, у малышки всё получалось замечательно. — Спасибо тебе, Кирюш, — сказал Квятковский и по-ребячьи коснулся своим плечом плеча Кирилла. — Я так рад, что ты не бросил Киру. — Тебе спасибо, — Кирилл с трудом подавил желание заключить возлюбленного в капкан своих рук. Нельзя. Не сейчас. Герман смутится и обдаст его холодом. Похоже, в ссылке его золотого мальчика впрямь сильно обижали, если у того произошёл такой внутренний надлом. — Нет, вам. Без вас этот мир бы ничего не стоил. — Герман, помоги мне, пожалуйста, нарисовать яблоки, — вежливо попросила Кира. С папой она всегда была очень вежливой. — С удовольствием, — откликнулся молодой отец. — Ты уже нарисовала круг и прямую, которая разделяет его по вертикальной оси? Теперь от прямой нарисуй кривые, чтобы обозначить верх и низ будущего яблока. Нет, не так. Дай-ка мне карандаш. Ох, Кирочка, давай заодно разберёмся с правым нижним углом. Ты его цветом убила! — Хорошо, — согласилась Кира и отхлебнула остывший чай, погрузившись в содержимое кружки по самые ноздри. — А на одном из цветочков я хочу нарисовать бабочку! — Дорогие мои, а давайте сходим в театр? — предложил Кирилл. — Я не пойду, — сразу накуксилась Кира. Ей надоели театры, выставки и концертные залы, и она решила, что лучше посидит дома, споёт пару придуманных накануне песен, посмеётся над разговорами прислуги, разрисует шторы в коридоре, а потом убежит в свою комнату, громко топая босыми ножками. — А мне перед этим придётся целый день приводить себя в порядок, — посетовал Герман. Но приглашение его заинтересовало. Он оголодал за новыми эмоциями. Как Кире осточертели культурные места и мероприятия, так ему осточертели четыре стены своей комнаты, пусть в ней и было всё для комфортного проживания. Работать Кирилл ему не разрешал, места для прогулок ограничивались садом и ближайшим парком, и в итоге получался замкнутый круг (вестимо, один из кругов ада): раннее пробуждение, постный завтрак, таблетки, чтение и размышления ни о чём, перемежающиеся с острым желанием напиться до поросячьего визга, обед, бесцельное шатание по знакомым тропинкам, таблетки, рисование, ужин, водные процедуры, головной колпак и сон. Герману претила такая праздность — если за него всё делали другие люди, получалось, что он сжирал чужие жизни. Разве это порядочно? Раньше он хотя бы помогал прислуге, а теперь и этого не мог делать. Но, может, после вылазки в театр что-нибудь изменится? Вдруг он получит положительные впечатления, а вместе с ними — вдохновение для рисования и писательства? — Я тебе помогу, — ответил Кирилл. Следующим вечером он застал Германа перед зеркалом. Тот примерял один из своих новых костюмов. Лаврентьев замер на пороге. Герман заметил его отражение в зеркале и снова оробел. — «Ещё не привык, не принял меня», — понял Кирилл и развернулся. — Кирилл, постой. Завяжи мне галстук, пожалуйста. — «Чертёнок, — в который раз подумал Лаврентьев. — Как мне удержаться и не разложить его прямо здесь, на полу, в куче рубашек и брюк? Сколько ещё он будет меня мучить?! Я целую вечность ни к кому не прикасался! Может, мне прямо сюда привести какого-нибудь мужчину? Чтобы этот стервец всё увидел и услышал! Тогда он поймёт, до чего я докатился!» Но загвоздка была в том, что Кирилл не хотел других. Он хотел только Германа, и не ради пустого сброса похоти, а ради чувственного единения тел и душ. Тяжело сглотнув, Кирилл подошёл к своему избраннику и привычным движением затянул галстук на его лебединой шее. — Гермуся, тут важно создать эффект небрежности, словно аксессуар был повязан за минуту, хотя на самом деле на это иногда уходит около получаса. Герман томно опустил ресницы, когда Кирилл оставил поцелуи на костяшках его пальцев. — Что будем смотреть? — Знаменитейшего «Гамлета». — Здорово, — постарался улыбнуться Квятковский. Он едва ли представлял, как просидит в зале два с половиной часа, но это всё же было интереснее, чем лежать на перине в пропахшей лекарствами комнате и пялиться в потолок. *** Через час мужчины находились у входа в театр. На пороге и около колонн было многолюдно, запорошенные последним снегом ступеньки освещались неярким лунным светом. Дамы в красивых шубках и шляпках смеялись и теребили в руках перчатки, а их спутники, на которых, как писал Салтыков-Щедрин: «пальто не пальто, фрак не фрак, а что-то среднее», курили и ворчали на холод. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Кирилл и заботливо поправил шарф на шее Германа. — Если хочешь, можем пойти домой. — Нет. Сегодня я хочу только то, что хочешь ты. — Неожиданно. Но я приму это к сведению. Надеюсь, в этот раз ты надел пиджак не на голое тело? — Тише! Нет, конечно! В самом здании театра оказалось очень жарко. Герману захотелось снять не только верхнюю одежду, но и всё, что под ней, лишь бы не вспотеть, но делать это он, конечно, не стал. Обстановка была для него хоть и непривычной, но отдалённо знакомой, да и Кирилл находился рядом, посему сильного волнения он не испытывал. В гардеробной Герман даже развеселился и, задевая локтями благоухающих дам, протянул сухонькой старушке своё пальто с фразой: «А правда, что гардеробщица с тридцатилетним опытом работы может по походке определить, есть ли у человека петелька на одежде?» Когда Герман направился в зал, от него шарахнулась добрая половина присутствующих. В фойе висели пейзажи, натюрморты и портреты знаменитых актёров, и возлюбленный Кирилла не смог удержаться от комментариев: — Драпировка на этой картине на меня кричит! Это жутко! А вот здесь — предмет не лежит. — Ты знаешь, как отличить кошку от кота? — спросил Лаврентьев. — Если побежал, то это кот, а если побежала — то кошка. Здесь примерно то же самое. Если предмет положили — он лежит. А если поставили — стоит. — Что ты несёшь! О, посмотри сюда! Эта женщина, наверное, играла Анну Болейн. — Почему ты так решил? — А у неё такой вид, будто ей сказали, что на этой неделе её казнят! А этот мужчина — точь-в-точь Полоний! Его словно убили, а потом заставили жить! О, эта картина очень красивая! Наверное, написана большим художником. К слову, у таких художников материальные проблемы соответствуют масштабам одарённости. Я только сейчас задумался: почему принято говорить, что картины не рисуют, а пишут? Кто их потом читает? — «Гермусе явно лучше, — с превеликим удовольствием отметил Кирилл. — Он говорит, смеётся и интересуется происходящим вокруг. Мои усилия не оказались напрасными». — А хочешь услышать ещё одну шутку на тему живописи? В холодную погоду у уличных художников-портретистов очень быстро заканчивается синяя краска. Глянь, какой пейзаж! Что тебе навевают эти горы? — Не что, а кого. Тебя. — Почему? — А я во всём и во всех вижу только тебя. В зале, пробираясь к своему месту, Герман наступал на ноги другим зрителям, но всякий раз искренне извинялся: «Пардон, не сочтите за грубость», «Глубоко сожалею о произошедшем. Пожалуйста, не смотрите на меня с укором. Я не хочу, чтобы вы страдали от обиды, как я страдаю от чувства вины», «Простите меня, прекрасное создание! Чтоб мне пусто было!» Но когда дело дошло до нужного ряда, оказалось, что там не было никого, кроме Кирилла. — Как такое возможно? — удивился Квятковский. — Я выкупил весь ряд, — пожал плечами его спутник. — Я ничего не понимаю! Но ведь билеты обычно приобретают заранее и… — Тише, Гермуся. Заиграла музыка, погас свет, поднялся занавес, на сцену вышли артисты. Герман понял, что сейчас не время для споров, и просто сел рядом с Кириллом. Он попытался сосредоточиться на героях известнейшей пьесы Шекспира, но взгляд предательски цеплялся за героя его снов, фантазий и писем. За того, кто долгое время казался нереальным, но сейчас находился совсем рядом. За того, кому он посвятил самые чувственные строки в своей жизни: «Удивительное дело: трещинки на моих руках (которым ты когда-то хотел дать имена, как астроном — новым небесным светилам) почти затянулись, хотя я много работаю. Думаю, их залечили твои слова». — Герман, — позвал Кирилл, — тебе совсем не нравится постановка? — Нравится. Но тут рядом вид поинтереснее. — Спасибо, я польщён. В зале стояла гробовая тишина, зрители напряжённо слушали. Герман достал из кармана конфету, но побоялся, что шорох обёртки привлечёт к себе внимание, и убрал её обратно. Зато, когда на сцену выбежал актёр в странной шляпе, он не смог сдержаться и расхохотался. Плечо Кирилла плохо справилось с функцией глушителя; вдобавок Герман вспомнил, как утром один из прислужников разбил тарелку, и успокоиться уже не представлялось возможным. Кирилл не сказал ни слова против и даже усмехнулся в кулак ради солидарности. — Мне так нравится, когда ты веселишься, — прошептал последний и положил руку на прелестные плечи. Объятие вышло дружеским, без особо подтекста, но Герман опасливо завертел головой. К счастью, в этот момент свет на сцене приглушился ещё сильнее, и зал тоже почти утонул во тьме. — «Нельзя упустить такой шанс», — решил Кирилл и прижал к себе возлюбленного. Герман повернул лицо и не отстранился, когда знакомые губы коснулись его губ. Внутренне он был к этому готов, но не ожидал, что всё произойдёт в подобной обстановке. — Кирилл, — ресницы молодого романтика колыхнулись, спрятав стыдливую задумчивость глаз. — Когда в зале станет светлее, галёрка начнёт разглядывать нас в бинокли, роняя программки и перчатки. А может, ещё и капельдинёр замечание сделает. — Пусть только попробует, — беспечно отозвался Кирилл и, не дав Герману времени на сомнения и раздумья, снова его поцеловал — мягко, трепетно, но уже открытыми губами и с языком. Рука Германа прошлась по сильной шее, почувствовала холод серебряной цепи. Он ответил на поцелуй, впитал эту ласку, как губка. По мере того, как на сцене и в зале становилось светлее, наслаждение мужчин рассеивалось, точно туман, и они оторвались друг от друга. — Ты в порядке? — осведомился Кирилл. — Да, — в голосе Германа послышались смущение и грусть. Все закончилось слишком быстро. Ему хотелось вновь прильнуть к своему возлюбленному. И Кирилл всё понял. Он снял пиджак, расстелил его на коленях Германа и на своих собственных, а затем, незаметно для окружающих, скользнул ладонью по гибкому телу. Квятковский отозвался на прикосновение сбившимся дыханием и облизнул пересохшие от волнения губы. — Герман, если бы ты только знал, как ты мне нужен, — Кирилл поднял слезящиеся глаза к потолку и уткнулся губами в висок млеющего в его объятиях Гермуси. Его руки слепо шарили вниз, до края чужих штанов. — Ты просил меня оставить тебя в покое, не уговаривать вернуться в усадьбу, не заботиться… Я так не могу. Возможно, ты всё ещё считаешь меня надменным дураком и богатеньким бездельником, но вдруг именно этот дурак предначертан тебе судьбой? А потом, этот дурак бывает очень нежным. — Я не причисляю тебя к дуракам, — Герман испытывал невероятное наслаждение и щемящее тепло. Когда холёная ладонь оттянула ткань его брюк и замерла на разгорячённой коже, он едва не застонал в голос. Ему хотелось опустить свою руку, помочь Кириллу, задать иной темп, но ничего не выходило. — Я не могу причислить тебя ни к кому, потому что ты — особенный. Света вокруг снова стало меньше, а может, Герману почудилось, и всему виною была застлавшая его глаза пелена. На его предплечьях и шее заиграли ласковые поцелуи, сладкая дрожь пробежала от его макушки до ног. Казалось, весь мир вокруг перестал существовать, а потом осветился вспышкой страсти и упоённости. Герман сдержал все звуки за зубами и обессиленно откинулся на спинку кресла. Следствие сильнейшего душевного пожара — красное зарево — разлилось по его коже, а из кармана его брюк так некстати выпало последнее письмо их тех, что Кирилл отправлял ему в холодную Сибирь. Полные любви глаза Германа остановились на лице Лаврентьева. — «Что это за глаза! — в который раз подумал Кирилл. — Если бы во всём мире исчезли океаны, я бы всё равно видел один из них во взгляде Гермуси! А ведь некоторые идиоты называют такой цвет стеклянным! Стеклянные глаза бы не отпечатывались в памяти! Это очень редкий и чистый цвет, вот люди и не могут к нему привыкнуть». Герман готов был сделать что угодно, чтобы выйти из неловкого положения, поэтому выкрикнул что-то восторженное и зааплодировал. Зрители всполошились, некоторые из них, приняв несвоевременную овацию незнакомца за чистую монету, тоже захлопали в ладоши. — Может, всё-таки пойдём домой? — спросил Кирилл, состроив невозмутимое выражение лица. — Я чувствую, что ты уже посмотрел всё, что хотел. *** Но Герману всё же удалось уговорить Кирилла дождаться конца постановки. Во-первых, ему было жаль потраченных на билеты денег, а во-вторых, актёров: ведь те старались, вкладывали душу в каждую реплику, и уйти в середине представления без видимых на то причин было бы крайне невежливо. Оставшиеся два часа Герман не убирал головы с плеча Кирилла и вспоминал их первую совместную ночь. Как-то, чего он так боялся, стало самым приятным и необыкновенным событием в его жизни. Как он сжимал одеяло, закатывал глаза и думал: «Так вот, как это ощущается. О чём-то подобном переговаривались девушки из компаний бродячих музыкантов? Это прекрасно». От таких воспоминаний у Германа сохли губы и щемило в груди. Когда Кирилл гладил его по голове, он уносился в другую реальность и мечтал об одном — стать котом, который бы тёрся об эти руки днями напролёт. Когда постановка подошла к концу, Квятковский понял, что проголодался. — Дело близится к ночи, а значит, хочется жрать, — пожаловался он. — Сегодня хочется здоровенный пирожок с мясом и рисом. И чтобы от него непременно пахло маслом! И как укусить с хрустом, чтобы аж сок потёк! И запить его сладким чаем! Не вынимая ложки из кружки! — Тебе такое нельзя, — грустно вздохнул Кирилл. — Это слишком тяжёлая пища. Но пойдём в буфет, выберешь что-нибудь другое. Герман мигом перевоплотился в грустную сомнамбулу. Он боялся, что его жизнь уже никогда не станет прежней, что болезнь не оставит его насовсем, а будет лишь периодически отступать, чтобы потом напасть снова, ждать удобного момента, как притаившаяся за камнем рептилия. — «Вы, Герман Александрович, слишком поздно обратились за помощью, — говорил ему доктор. — И, судя по вашему состоянию, совсем не лечили болезнь, когда она была в острой форме. Теперь искоренить её будет довольно трудно. В периоды затишья она станет проявлять себя лишь сухим кашлем, но если дело дойдёт до повторного обострения, снова придут лихорадка, боли в грудной клетке, хрипы, судороги и прочие «радости». Даже любопытно, где вы, молодой и с виду породистый парень, умудрились подхватить эту дрянь. Обычно вашим недугом страдают те, кому приходится жить и работать в очень плохих условиях». Откуда же служителю панацеи было знать правду… — Что с тобой? — спросил Кирилл. — Хочешь мороженое? — Целое? — уточнил Герман. Обычно Кирилл позволял ему попробовать только шоколадную глазурь и ягоды для декора. — Да. Но при условии, что ты сразу запьёшь его горячим чаем. — Хочу! Но стоило мужчинам выйти из зала и направиться в буфет, как они столкнулись со своими старыми знакомыми. Это было так неожиданно и неприятно, что Герман не придумал ничего лучше, чем отойти за спину Кирилла, а сам Лаврентьев стиснул зубы и прошипел: «Сколько лет, сколько зим!» — Вот тебе и на! Кирилл, ты ли это? — Как видишь. На Кирилла смотрела его бывшая супруга. За пролетевшие годы она мало изменилась, разве что стала использовать ещё больше белил. Секунду назад её лицо было светлым, как лепесток магнолии, но сейчас приобрело оттенок молодого стручкового горошка. — Какая встреча! Жаль, что я не знала, что ты здесь будешь. Я бы подготовилась. — Как? Пулемёт бы выкатила? — Как ты поживаешь? — Лучше всех. Сам себе завидую, — признался Кирилл. Для него всё складывалось наилучшим образом, ведь он наконец-то снова поцеловал того человека, чья любовь омывала его, подобно тёплому дождю, до глубин души и сердца. И, самое главное, всё это было глубоко взаимным. Эти волшебные ощущения явно стоили нескольких горячечных фраз с галёрки: «Что делается-то!», «Прямо в храме искусства!» и «Могли бы и до дома дотерпеть!» — Не женился во второй раз? — Бог миловал. — А что так? — А что не так? — Всё с прислужниками знаешься? — А ты всё не знаешься ни с кем, кроме своего эгоизма? И не тесновато вам в одном доме? — «Сволочь», — подумала Ольга и зачем-то тряхнула головой. Её каштановые локоны эффектно рассыпались по плечам, серёжки, весь вечер не дававшие их обладательнице покоя своей тяжестью, слабо зазвенели. Герман так и стоял позади своего спутника, радуясь тому, что Ольга его намеренно игнорировала, но встревожился, когда на передний план вылез Семёнов. — Кирилл, пойдём, — в ту же секунду попросил Квятковский. — Не разговаривай с ним, пожалуйста. — Какой ты, Герман, недобрый, — отреагировал Виктор. Не то чтобы тот выглядел совсем плохо, но всё равно было заметно, что на нём сказались неправильный образ жизни, недостаток сна и частые скандалы с вышестоящими. Его глаза уже не искрились лукавством и тягой к приключениям, а плечи были понуро опущены. — Быстро забыл своего… — Витя хотел сказать «друга», но не смог. — Витя, я ничего против тебя не имею, но разговаривать нам не о чем. — Тебе, может, и не о чем. А вот твоему приятелю — явно есть, о чём. Кирилл Ювенальевич, у меня к вам предложение. Только не отвергайте его сразу, выслушайте до конца. Я понимаю, вы не очень хорошо меня знаете, и между нами до сих пор присутствует небольшое неравенство, но наше сотрудничество может оказаться взаимовыгодным. Мне нужна помощь с открытием кафе, и… — Попробуй дверь на себя, — оборвал рассказчика Лаврентьев. Герман зажал рот ладонью и покатился со смеху. Витя отступил — что ж, было глупо ожидать чего-то иного. Но он хотя бы попытался. — А неравенство между нами не небольшое, а огромное, — продолжил Кирилл, ни на децибел не возвысив голоса. — Моя душа не так одичала и зачерствела, как ваша. — Кто тебе позволил так разговаривать с моим мужем? — не осталась в стороне Ольга. — Если ты от избытка общения с простолюдинами подзабыл, как вести себя в элитном обществе, тебе лучше сидеть дома. — Я не знаю такого понятия, как «элитное общество». Я знаю элитных собак и лошадей, но людей — нет. Знаю только образованных и интеллигентных, но вы к таким не относитесь. Ольга сжала кулаки так сильно, что едва не поранила ладони ногтями. «Не знаю элитных людей»! Ну и бред! Потомственный аристократ, владелец роскошной усадьбы, имеющий возможность жить за счёт пассивных доходов и посещать грандиозные мероприятия, настоящий светский лев… И что с ним стало?! Да Ольга даже сейчас готова была отдать что угодно, чтобы они с Кириллом снова сошлись! Её нынешний муж, безусловно, был симпатичным, деятельным и неглупым, но проигрывал предыдущему. Кирилл умел притягивать к себе людей почти на магическом уровне. Как и она. Но любил Германа. И так и не разлюбил! Напрасно она надеялась, что ничто не вечно под луной. — Кирилл, у меня першит в горле! — крикнул Герман. — Мне нужен горячий чай. — Что же ты сразу не сказал? Пойдём скорее. — «Сработало!» — мысленно восторжествовал Квятковский. — Чтоб им пусто было, — высказалась Ольга. — Вить, ты обратил внимание на внешний вид Германа? Он как с креста снятый! Наверное, он чем-то болеет. — Оля, я давно хотел тебе сказать, что иногда ты бываешь просто невыносимой! — Витя произнёс это без своей обычной гнусности, а как-то совсем по-взрослому. — Спился и заболел неплохой, хоть и слабый человек, и во многом по нашей вине! Тут впору плакать, а ты злорадствуешь! — Поплакать я могу только над испорченной жизнью Кирилла. Семёнову не хотелось развивать дискуссию на эту тему, но за вечер супруга сильно истрепала ему нервы, поэтому он, чтобы поспорить с ней, возразил: — Это не твоё дело. Тебя просто раздражает, что Кирилл нашёл в Германе что-то, чего не нашёл в тебе. — Мог бы и поддержать жену! — «Герман болеет и пьёт, но не потерял красоты», — подумал Витя, и весь мир для него перевернулся набок. Его охватило такое чувство, будто он только сейчас понял, что задевал Германа, потому что был не в силах смириться с его нравственным величием и породой, которые не пропьёшь и не спрячешь под обносками. Да, Герман — бедняк, дурак и работяга, но он родился с дворянским чином, звучной фамилией и аристократическими чертами лица, и это наложило отпечаток на всю его личность. И мещанин Витя завидовал всему вышеперечисленному, даже когда стал успешнее своего бывшего соседа во всех сферах жизни. Даже когда общался с деятелями искусства и заграничными вельможами, а Герман — с алкоголиками и уголовниками. — Я чувствовал, что нам сегодня нужно было остаться дома, — сказал Семёнов. — И постановка оказалась бездарной! Правда, Оля? — Да ну тебя, — поджала ярко накрашенные губы Ольга. — У меня расположение духа испортилось. Я не желаю с тобой общаться, — и пошла к двери. Витя хотел остаться, но, подумав, решил ничего не усугублять, и устремился за женой, крикнув: «Подожди, я же тоже иду!» *** Ночь медленно опускалась на окрестности, превращая мир за окном в царство безмолвия, мистики и бархатного лунного света. На всех этажах затихли шаги, голоса и шорохи, лишь в гостиной, бросая игривые отблески на стену и потолок, потрескивали поленья. В воздухе витали ароматы дикой розы и кедра. — Иди ко мне, Герман, — попросил Кирилл. Герман неспешно, но уверенно протянул руку вперёд. Его длинные пальцы скользнули по плечу Кирилла, оставив за собой дорожку трепета. Игра контрастов едва не лишила Лаврентьева разума: жаркий воздух, прохладные прикосновения. Каждая клеточка его тела напряглась, словно он давным-давно жил только ожиданием этого момента. Хотя, что скрывать, всё так и было. Не в силах больше сдерживаться, он притянул Германа ближе и прошёлся нежными поцелуями по его плечам. — Откуда это? — спросил Кирилл, наткнувшись не небольшой рубец около чужой ключицы. — Я не знаю, — честно ответил Герман. Воздух забился ему в горло раскалённым до предела комом, он не представлял, как пережить столько эмоций сразу. — Не помню. — Как же ты настрадался, — протянул Кирилл и, наклонившись, покрыл торс своего возлюбленного невесомыми ласками. Герман больше не мог держать глаза открытыми. Поцелуи Кирилла быстро стали смелее и острее, будоражили всё больше. Когда Кирилл приподнял голову, Герман сам впился в его губы. Их руки нашли друг друга и сплелись в мягком, но крепком объятии, пальцы заскользили по коже, два дыхания слились в одно, тишина нарушалась полустонами. В этой прелюдии не было начала и конца, не было спешки. Было лишь мгновение длиною в вечность и двое людей, которые нашли друг в друге весь мир. С наступлением утра Герман долго смотрел на своего любимого мужчину. Под его кожей разливалась приятная усталость и сладкая леность, а солнце затопляло комнату золотым светом. Когда Герман провёл ладонью по щеке Кирилла, тот перехватил его руку и прижал к губам. — Бриллиант души моей, как ты себя чувствуешь? — взгляд Кирилла пока оставался сонным и рассеянным, но уже был наполнен нежностью. — Замечательно. — Я не причинил тебе боль? — Ни капли. — Если бы ты только знал, как я тебя люблю. — Я знаю, — Герман поудобнее устроился на мятых простынях. Воздух в комнате уже был свеж, но в постели ещё царило тепло. — Но я люблю тебя ещё сильнее. И всегда любил. Каждый день с тобой — как драгоценный камень в моей памяти. — Герман, прошу, пообещай, что не уйдёшь. Я не вынесу этого ещё раз. — Куда же я денусь от своего супруга? Ой, так красиво звучит! Знаешь, почему-то слово «супруг» ассоциируется у меня с выходными в театре или в филармонии, а «муж» — с выходными на рынке или в поле. И то, и другое — замечательно, но к тебе, конечно, больше подходит первое, — объятия Кирилла ощущались Германом как плед, укрывший его от всех тревог. Их сердца словно связались невидимой нитью. — Но как ты будешь со мной жить? За время нашей разлуки я изменился только в худшую сторону. Ты — умный и красивый, а я — глупый и… и всё вроде. — Но если ты такой плохой, почему я так и не смог тебя забыть? Почему скучал и мечтал о тебе? Почему не желал близости с другими? — Правда не желал? Кирилл кивнул в ответ. Дело было не просто в нежелании, у него даже появилось отвращение к ни к чему не обязывающим связям. От историй Вениамина его натуральным образом подташнивало, хотя рассказчик и не вдавался в подробности, а в июне, когда один из бывших приятелей прислал ему приглашение на «закрытую пирушку для своих», на обратной стороне дописав, что там будет много алкоголя и разврата, Кирилл вовсе почувствовал себя так, словно ему прилюдно плюнули в лицо. Весь вечер он стонал от мигрени, ворчал на прислугу и цедил холодную воду из стакана маленькими глотками, а утром отправил на нужный адрес ответное письмо: «Не присылай мне подобного, будь добр. Я человек, понимаешь? Человек! А не потаскун, на котором клейма негде поставить!» — Неужели я разлюблю тебя только оттого, что иногда хожу на симфонические концерты? Или буду ставить себя выше, потому что знаю иностранные языки? — Кирилл оставил поцелуй на чужом виске. Этот жест без слов сказал: «Я здесь, я рядом, я забочусь о тебе». — Одинаковость не может дать ничего, кроме ощущения замкнутого круга, а мы с тобой отлично дополняем друг друга. И я знаю, что всё то хорошее и светлое, что есть сейчас во мне, — это от тебя. Герман зашёлся в кашле и положил голову на подушку. Кирилл провёл ладонью по его волосам, вслушался в его дыхание. Последнему чудилось, что вся усадьба заполнена чем-то тягучим и страшным, похожим на расплавленный свинец, и что всем станет весело и легко только после того, как этой субстанции не станет. Вот только это, конечно, не свинец, а болезнь Гермуси. — «Кирюша поставит меня на ноги, — подумал Квятковский. — Мне уже гораздо лучше. Доктора, обследования, лекарства, диета — всё это не проходит даром. Но хоть бы он сам потом не слёг. Уж слишком сильно он переживает и слишком много на себя взваливает. Только мой новый режим питания отнимает у него столько сил, что и подумать страшно. Творог обязательно мягкий, бульон — обезжиренный, рыба — отварная… Жуть! И ведь за всем сам следит и не устаёт. Видимо, своя ноша не тянет. На свете нет и не будет человека, который бы любил меня сильнее, чем Кирилл. И я отвечаю ему тем же. Мне эта любовь наказания хуже, скулил бы от неё, но что поделать, если она такая?». — Жара у тебя нет, это очень хорошо, — сказал Лаврентьев. — Пойдём завтракать? Но Герман думал совсем о другом. — Мы всё равно не сможем жить открыто. — Попробуем. Высший свет уже закрыл для меня двери, никого из важных людей не интересует моя личная жизнь. Но, если возникнут трудности, уедем. Герман помрачнел. Он не хотел куда-либо уезжать ни на время, ни, наипаче, навсегда. Рассказы Кирилла о Южной Франции он воспринимал почти как угрозу. Иностранного языка Герман не знал, особенностей чужестранного менталитета — тоже. И что он там будет делать? Он и тут-то без Кирилла шагу ступить не мог, а в новой обстановке рисковал окончательно превратиться в балласт. Да и Киру жаль: у неё же тут своя комната, любимые учителя и приятели… И каково ей будет в один момент остаться без всего этого? — Кирюша, я не уверен, что мы поступаем правильно, — сказал Герман. — Кто знает, как сложатся наши отношения сейчас, когда ты стал совсем взрослым и серьёзным, а я — совсем больным и испорченным? А вдруг ничего не получится? Жизнь ведь непредсказуема и переменчива. Сегодня — одно, завтра — другое. У нас могли бы остаться замечательные воспоминания о нежной истории молодости, но если всё закрутится, если снова что-нибудь случится… Мы рискуем их лишиться. — Герман, это уже слишком. Прекрати всего бояться. Я не собираюсь оставлять тебя в прошлом. Ты — не воспоминание, а мой самый бесценный и любимый человек. Когда мужчины пришли в столовую, там уже сидела Кирочка. Малышка за обе щеки уплетала сырники, поочередно макая их в два вида варенья, и размахивала вилкой, как храбрый воин — саблей. — Дочь, ты хоть прожёвывай, — улыбнулся Герман. А ведь однажды им с Кириллом придётся рассказать Кире правду о своих отношениях. А если она этого не поймёт? Если её начнут дразнить другие дети? — «Как всё сложно, — подумал Герман. Ему снова вспомнилось, как он пытался удержать около себя Свету только из-за того, что отношения с ней были незамысловаты и беспрепятственны. Из-за того, что рядом с женщиной ему никому ничего не приходилось объяснять, оправдываться и терпеть насмешки. — Наверное, такова цена настоящего счастья. Ничего, Кира — милая и сообразительная девочка с чутким сердцем. Она всё поймёт. Да, на свете есть женщины, любящие женщин, и мужчины, любящие мужчин. Это — не хорошо и не плохо, это просто вот так. И Кирочка волею обстоятельств будет воспитываться именно в такой семье. Из-за чего тут переживать?» — Угу, — кивнула Кира и сделала щедрый глоток какао из кружки. — Можно мне погулять? — Да, — ответил Кирилл. — Но только после урока арифметики. — Фууу, — застонала девочка. Она не любила арифметику, хотя и не испытывала с ней сложностей. Просто цифры, числа, измерения и примеры на сложения и вычитания были для неё очень скучными. Если урок письменности возможно было превратить в весёлую игру и вместо «кошка свернулась калачиком» и «бабушка печёт пироги» написать «бабушка свернулась калачиком» и «кошка печёт пироги», а на уроке естественной истории — дать волю фантазии и завалить учителя вопросами, вроде: «А правда, что русалки и дельфины — дальние родственники?» и «А почему мухи не падают, когда сидят на потолке?», то на арифметике ничего подобного не происходило. И преподавал её пахнущий нафталином старикашка с апатичным взглядом. — А может, сегодня обойдёмся без уроков? — вдруг спросил Герман. — Ну сколько Кире можно пичкаться науками? Она ведь ребёнок, ей хочется веселиться, бегать и прыгать. А сегодня на улице такая хорошая погода! Давайте куда-нибудь сходим? — Куда? — уточнил Кирилл. — Куда Кирочка пожелает. — Желаю на ярмарку! — воскликнула Кира. — Хорошо. Но перед ярмаркой посетим музей. — Мы же туда недавно ходили. — Кира, месяц назад — это не «недавно». Да и твой папа там ещё не был. Ему интересно. Правда, Герман? — Да, очень, — почти не соврал Герман. — Ну и замечательно. Через полчаса компания отправилась в музей. По дороге Кира лепила снежки и бросала семечки воробьям. Часто по отношению к библиотекам и музеям можно было применить фразу «тихо, как в склепе» — так вот, тихо там было только до появления Кирочки. В первый зал она зашла с криком: «Здравствуйте, люди! С добрым утром! Время взбодриться и начать новый день на полную котлету!» Немногочисленные ранние посетители одарили девочку доброжелательными улыбками, но сконфузились, когда она подошла к витрине со старинными монетками и протянула: — А тут есть что пограбить! — а потом обратила внимание на всевозможные украшения и наряды, ранее принадлежащие королям: — Ого-го! А тут ещё больше! — Кира! — испугался Герман. — Что ты говоришь? Вот врождённая дурацкая непосредственность! По пути в следующий зал Кира чуть не повалила парочку экспонатов, врезалась лбом в витрину с древними книгами и упала, споткнувшись о ковёр. — Мама дорогая, — прошептал Герман, прижавшись плечом к Кириллу. — Это вроде бы простой музей, а посетители одеты так, словно пришли на день рождения английского лорда. Зачем ты посоветовал мне надеть эти штаны? Они мне натирают! — Такого не может быть, — возразил Кирилл. — А я говорю, натирают! — Значит, купим новые. — Это что же, в модный салон придётся идти? Не хочу! — А если мы на обратном пути купим ещё булочки с малиновым вареньем? — Ох, ты знаешь, как меня покорить! Герман с наслаждением вдыхал аромат старины, переплетённый с нотками красок и пыльных пергаментов, и рассматривал залитые солнечным светом скульптуры, картины и артефакты, каждый из которых хранил в себе секреты давно ушедших эпох. — Здесь и вправду хорошо, — подытожил он. — Спасибо, Кирилл. Снова вывел меня в люди. Не всё же мне дома сидеть. Смотри, какая красивая картина. — Ты гораздо красивее. Сейчас я близок к искусству, — Кирилл понизил голос до плохо различимого шёпота и провёл ладонью по спине своего возлюбленного, кончиками пальцев почувствовав трогательно выпирающие птичьи косточки. — Но ещё ближе был минувшей ночью, когда целовал твои ключицы. — Ой, а куда подевалась Кира? — Кира! Девочка наша, где ты? Маленькая бунтарка не отозвалась, поэтому мужчинам пришлось в срочном порядке опросить окружающих, когда те в последний раз видели светловолосую, голубоглазую девочку с двумя озорными хвостиками на голове, одетую в розовое платьице. Они обнаружили Кирочку в первом зале. Она спала на стуле, на котором обычно отдыхали охранник и экскурсовод: голову склонила на плечо, а ладонями обнимала вешалку. Кирилл взял Спящую красавицу на руки, а Герман расцеловал её в обе щёки. А Кирочка лишь ворочалась и хлопала ресницами. — Как мы за тобой недоглядели? — успокоившись, Герман погладил дочь по волосам. — Плохие из нас… сопровождающие! А потом все пошли в кафе — выпить чаю, чтобы успокоиться.
