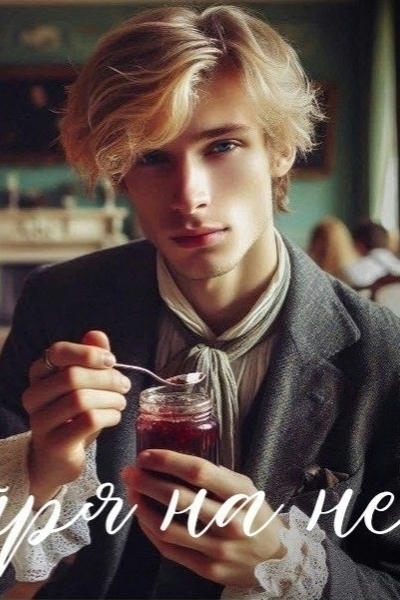
Пэйринг и персонажи
Метки
Драма
Романтика
Ангст
Заболевания
Алкоголь
Серая мораль
Эстетика
Дети
Отношения втайне
Курение
Смерть второстепенных персонажей
Неравные отношения
Разница в возрасте
Смерть основных персонажей
Кризис ориентации
Первый раз
Признания в любви
Разговоры
Психические расстройства
Психологические травмы
Любовь с первого взгляда
Аристократия
Обман / Заблуждение
Элементы гета
Аддикции
Трудные отношения с родителями
XIX век
Историческое допущение
Разница культур
Российская империя
Борьба за отношения
Воссоединение
Горе / Утрата
Запретные отношения
Социальные темы и мотивы
Верность
Намеки на секс
Художники
Проблемы с законом
Актеры
Иерархический строй
Элементы пурпурной прозы
Бедность
Высшее общество
Роковая женщина / Роковой мужчина
Нарциссизм
Хобби
Письма
Лебединая верность
Описание
– Я не знаю человека чище Германа. Он как живая рана, мальчик без кожи, ничуть непохожий на других. Он нуждается в защите, я стараюсь его защищать. Но часто мне кажется, что я делаю недостаточно… Ему важно ощущать себя потерянным ребёнком, которого наконец-то нашли и снова обняли, его душа – словно фарфор, который может треснуть от малейшего удара. Этот груз ответственности довольно нелегок, но я уже не боюсь сломаться под его тяжестью. Что бы ни случилось, я останусь со своим трудным счастьем.
Примечания
Произведение не претендует на историческую достоверность.
Глава Восьмая.
14 июля 2024, 06:06
Никогда не отдавайте меня в чужие руки. Не отдадите? Владимир Маяковский, из письма Л. Брик.
— Кирюша, давай-ка здесь всё поменяем: покрасим стены в бежевый или голубой цвет, переставим стол и, главное, повесим кружевные занавески. А на широком подоконнике я разведу самый настоящий цветник! — тараторил Герман, порхая от окна к кровати и обратно. — А домашнюю пальму лучше убрать в коридор, а то она как-то ненатурально смотрится. — Гермуся, чтобы в доме всё смотрелось натурально, нужно, чтобы в нём жили натуралы. А в нашем случае — и говорить не о чем! — засмеялся Кирилл и обнял своего избранника со спины. — Я серьёзно. А ещё нужно убрать со стены этот ужасный ковёр. Ох, столько дел! Мне даже страшно! Я давно отвык от семейной жизни. А вдруг я сделаю что-нибудь не так и разочарую тебя? Кирилл улыбался точь-в-точь как влюблённый мальчишка. От Германа ему нужны были только ответные чувства и ничего более. Ему хотелось петь, плясать, а то и подраться с кем-нибудь! — Кирочка! — позвал Герман. — Иди сюда! Мне нужна твоя помощь. Кира влетела в комнату маленьким тайфуном, по пути чуть не повалив журнальный столик. — Пожалуйста, приведи в порядок старые книги из шкафа, — попросил её молодой отец. — Протри пыль с их обложек и подклей страницы. И, если сможешь, выбрось те газеты, что лежат под диваном в гостиной со времён царя Гороха. — Будет сделано! — ответила Кира и шутливо присела в реверансе. — Слышите? Кажется, к нам пришли гости. — Гости? Неужели Серёжа сподобился заглянуть? — удивился Кирилл. Глаза Германа засветились озорным блеском. — Сергей? Наконец-то мы увидимся! — крикнул он и выбежал из комнаты. — Чудесный мальчик! Герман был совсем рядом, но Кириллу его было чертовски мало. Мало, как нищему — хлеба, как смертельно больному — прожитых лет, как попрошайке — медных монет; мало, как цветов в палитре, как воздуха перед грозой, как прохладной воды в жаркий день. Кирилл видел в Германе человека, в котором заключалась вся его судьба, его пространство, время и единство прекрасного, его сгусток счастья, боли и кислорода, которым трудно дышать, ибо он был отравлен голубыми глазами с застывшей в них меланхолией вечернего сумрака, мистерией древних морей, эфемерными воспоминаниями и неуловимым сиянием звездных миров. — «Если бы у меня имелась такая возможность, я бы заключил с ним законный брак на глазах у всей Москвы! Да что там Москва! У всего мира!» — подумал Кирилл. Герман быстро пересёк коридор и столкнулся с дорогим гостем. Тот при виде него удивился так, словно узрел чудом спасшегося царевича Дмитрия, но потом их губы обоюдно растянулись в улыбках. — Герман! Не могу поверить! — сказал Сергей. — Как здорово, что ты вернулся! Надеюсь, навсегда? — Наверное. — А Кирилл тебя всё это время ждал. На других людей и не смотрел. Я боялся, что он от одиночества подвинется рассудком, и даже пытался познакомить его с племянником своего давнего друга. Но куда там! Кирилл только разозлился! Дай-ка, я пожму тебе руку. Ого, ты стал очень сильным! — Да перестаньте. Что выдумали! Всё вернулось, вспомнилось: и спокойная жизнь, и настоящая любовь. Как будто и не было этих ужасных скитаний и лишений. Как будто он, Герман, никогда не знал ни своих неприятелей из Сибири, ни надзирателей, ни голода, ни угроз. — Что же вы так долго не появлялись? — в голосе Квятковского прозвучал упрёк. — Времени не было. У меня теперь обязанностей по горло: двое детей, да ещё Катя намедни приболела. — Как приболела? Что с ней? — Простудилась, уже неделю с постели не встаёт. Есть вроде и хочет, но в то же время ничего не хочет. Только пьёт много чая и морсов. — А предложите ей паштет из рыбы и творога. Это очень вкусно, я ем его каждое утро. Хотите, дам вам целую баночку? Просто так, мне в ответ ничего не нужно! — Герман, подожди… — О, Серёжа, здравствуй, — вовремя провозгласил вышедший в коридор Кирилл. — Здравствуй, Кирилл, — приветливо улыбнулся гость. Хозяин дома подошёл к Герману и без лишних слов взвалил его себе на плечо. Ответом ему стал одобрительный, хоть и полный смущения смех. — Знаете, вот сколько жил в Петербурге, — заговорил Квятковский, не прекращая обнимать Кирилла за шею, — всеми фибрами души недолюбливал этот город! Вечно холодно, сыро, мрачно, голодно. Бытовая безысходность в крайней степени! И я был уверен, что так будет всегда и везде. Но сейчас я бесконечно люблю Москву. Ведь именно здесь я обрёл тепло, защиту и душевное равновесие. Да! Я очень люблю Москву! Но ещё больше люблю Кирилла! *** В середине весны Герман всё-таки лёг в больницу на две недели и запомнил этот период как чреду отвратительных дней. С ним возились, его лечили, ему прогревали и осматривали всё, что возможно, у него имелся доступ к книгам, шахматам и самым лучшим блюдам, но его это не интересовало. Целыми днями он слонялся по палате и глазел в окно, ожидая визита Кирилла. Тот приходил каждый день и непременно приносил фрукты, ягоды и цветы. Ох, да он бы и ночевал здесь, но доктора взбунтовались: «Кирилл Ювенальевич, это не положено. Вы и так ходите сюда словно по расписанию и нередко затеваете скандалы. От ваших бесконечных вопросов о том, как и чем лечат Германа Александровича, у кого угодно голова может пойти кругом. Пожалуйста, не доводите ситуацию до абсурда». — Нос греют? — уточнял Кирилл, пока Герман сидел у него на коленях и ел предварительно вымытые с мылом яблоки. — Это хорошо. Отхаркивающие препараты дают? Тоже замечательно. А противовоспалительные? Главное, не молчи, если что-то не понравится. Но особенно тоскливо Герману становилось по ночам. Сон приходил к нему с большой неохотой, перекрахмаленная простыня скрипела и гнулась, как фанерный лист, — на таком белье сам бог велел страдать неврозами и мигренями. Но самое страшное было в том, что в таком состоянии Германа снова тянуло выпить, поэтому ему приходилось с головой забираться под одеяло, ворочаться и всеми силами пытаться набрать хотя бы пару часов беспокойной дремы. Когда Квятковский вернулся домой, то обнаружил, что вся его комната заставлена цветами, среди которых были и изящные розы, и величественные лилии, и элегантные орхидеи, и пышные пионы. Все они истончали изумительные ароматы и наполняли пространство гармонией. Зажили мужчины превосходно. Герман распорядился сделать в гостиной и столовой большой ремонт, украсил стены спальни своими и чужими картинами, а около рояля устроил уютный уголок из мольбертов, набросков своих будущих книг, разноцветных тряпочек и бюстов. Возле дверей теперь стояли скульптуры, а над диванами и кроватями висели венецианские фонари. Кириллу не особо понравилась новая обстановка. Если раньше внутреннее убранство усадьбы характеризовало её владельца как серьёзного, авторитетного и дерзкого мужчину, то сейчас — как милого, но скучного семьянина, от которого за версту разило куриным супчиком, салатиком из свежих овощей и чуть-чуть плесенью. Но Герману он об этом, конечно, не сказал. Квятковский чувствовал себя значительно лучше, каждое утро играл на музыкальных инструментах или писал что-нибудь масляными красками. Кирилл ожил и по совету своего возлюбленного снова стал изредка принимать гостей. Мужчины и женщины из высшего света уже не тянулись к нему так, как раньше, но те, кто ниже его по статусу, — начинающие артисты, писатели, балетмейстеры и организаторы мероприятий, — молились на него, точно на идола. Ведь если первым он был равным, то над вторыми высился. Герман видел, как легко Кирилл сходился с будущими знаменитостями, как здорово те его принимали, как хвалили и какие перспективы ему пророчили, и всё это снова казалось ему, Квятковскому, частью параллельного мира. Кирилл неоднократно предлагал Герману показать визитёрам свои картины и сочинения, но тот отказывался. Простота, добродушие и кроткая улыбка Германа приводили гостей в умиление и восторг. Если он заходил в гостиную в разгар полусветской беседы, они тут же гурьбой бросались к нему с намерением обнять, но Кирилл всегда вовремя прекращал сие безобразие. Он не терпел, когда Германа касались чужие руки, но периодически, словно желая похвалиться перед всеми своим сокровищем, просил его повернуться то в профиль, то влево, то вправо. Поначалу Квятковский тушевался, но постепенно принял правила игры. Иной раз он словно оказывался вне времени и пространства, и с удивлением обнаруживал, что вертится перед собравшимися как опытный натурщик. Гости, глядя на него, думали: «и впрямь очень симпатичный молодой человек!», но быстро о нём забывали и продолжали разговаривать о театральных премьерах, музыке и литературе. Герман редко принимал участие в этих беседах. Он многое понимал и примечал, но считал себя недостойным дискуссий с такими людьми. Конечно, если бы он выпил пару бокалов вина, всё бы изменилось, но алкоголь оставался для него под запретом. Да и многие из употребляемых гостями слов казались ему чрезмерно напыщенными. — Я считаю, что свои мысли нужно выражать проще, — однажды сказал он, услышав, как дама в пышной шляпе нахваливала стихотворение Лермонтова. — Так, чтобы всем было интересно и понятно: без всяких «мы пьём из чаши бытия с закрытыми глазами» и «тёмной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья». — А вам знакомо слово «метафора»? — встала на дыбы ценительница литературы. — Да, знакомо. Но там, где есть напыщенность, нет сердца и толковости. — Вы беретесь рассуждать об очень серьёзных вещах. Позвольте узнать, на каком основании? Вы где-то этому учились? Или хотя бы близко общались с именитыми критиками? — Я не думаю, что интерес к литературе и право рассуждать о ней даются образованием и связями. Это, — Герман растерянно приподнял вверх указательный палец, — от бога. Но главной загадкой для посетителей усадьбы был не Герман, а то, как Кириллу удавалось предчувствовать его скорое появление. — Вот сейчас дверь распахнётся, и он войдёт, — говорил Лаврентьев, интонационно выделяя предпоследнее слово, словно раскладывая на его буквах заклинание. И через секунду в комнате действительно появлялся Герман, будто матерелизовался из воздуха, принося с собой ощущение таинства и благоговейного удивления. И всем казалось, что между этими мужчинами существовала незримая нить, связывающая их настолько крепко, что никто не смог бы её разорвать. — Я не знаю человека чище Германа, — признавался Кирилл. — Он как живая рана, мальчик без кожи, ничуть непохожий на других. Он нуждается в защите, а я стараюсь его защищать. Но часто мне кажется, что я делаю недостаточно… Ему важно ощущать себя потерянным ребёнком, которого наконец-то нашли и снова обняли, его душа — словно фарфор, который может треснуть от малейшего удара. Этот груз ответственности довольно нелегок, но я уже не боюсь сломаться под его тяжестью. Что бы ни случилось, я останусь со своим трудным счастьем. *** Сад ранней весной являл собой волшебное место, где природа начинала свой танец возрождения. Воздух уже был наполнен свежестью и ароматами первых цветов, молодая зелень пробивалась сквозь ещё холодную землю. То тут, то там виднелись похожие на жемчужины подснежники и сравнимые с хаотичными каплями акварели крокусы. Вернувшиеся из тёплых краев птицы разбавляли воздух своими звонкими трелями. Утренний туман рассеивался, уступая место солнечным лучам. — Знаешь, говорят, если долго смотреть на луну, можно стать сумасшедшим, — засмеялся Кирилл, пройдясь трепетными поцелуями по костяшкам пальцев Германа. — Я смотрел на неё полночи, но как же хорошо, что мне это не грозит, потому что я сошёл с ума ещё в тот день, когда впервые увидел тебя. Герман поудобнее устроился на чужих коленях. — Я понимаю, о чём ты говоришь. В тот день я почувствовал то же самое. И если это безумие, то я не хочу становиться нормальным. — Покажи свою родинку, пожалуйста — ту, что находится около сердца. Герман приподнял свитер, обнажив грудь. — Красиво, — выдохнул Кирилл и коснулся родинки так аккуратно, словно та была священным знаком. — Как звездочка на коже, как метка, что ведёт меня к твоему сердцу. — И почему ты не стал поэтом? — Возможно, ещё стану. Никогда не поздно попробовать что-то новое. С ближайшего дерева слетел воробей, сел на угол скамейки, на которой расположились мужчины, и начал наблюдать за ними с каким-то особым интересом. — Смотри, даже воробушек за нас радуется, — сказал Герман. Кирилл зарылся пальцами в светлые волосы. Эмоции Гермуси сладкой патокой осели на его коже и разлились в его крови вином столетней выдержки. Дьявольские глаза с невыносимой поволокой оказались совсем рядом с Германом, а тот уже сам подался навстречу и начал целовать каждый сантиметр своего любимого, породистого лица. Кирилл наклонился, нырнул под чужой свитер и коснулся губами выступающих рёбер. Участившееся дыхание Германа быстро сменилось тихим стоном. — Хочешь, я спущусь ниже? — шепнул Кирилл. — Нет, не зд… — начал Герман, но сбился. Кирилл огладил каждую косточку, каждый изгиб стройного, молодого тела и спустился ниже. Воробей, словно поняв, что стал свидетелем чего-то интимного, чирикнул и улетел. Солнечные лучи заиграли на коже Германа, и тот закрыл глаза, полностью отдавшись происходящему. Мир за пределами сада был полон тревог и забот, но именно здесь, среди первых цветов и дыхания весны, царил полный покой. — Кирилл, я надеюсь, что впереди у нас будет ещё много вёсен, — сказал Квятковский. — И я хочу провести каждую из них с тобой. — Счастье моё, возможно, сейчас не самый подходящий момент для этой новости, но меня пригласили на дачу. Хочешь, я возьму тебя с собой? Или же останусь дома? Я не очень желаю ехать, но там состоится оригинальная свадьба одного молодого художника и телеграфистки. Им будет приятно, если я появлюсь. — Нет, Кирюш, я не поеду на дачу. Что мне там делать? Я ведь не знаю никого из этой компании. Неожиданно неподалёку хрустнула ветка. Мужчины посмотрели в сторону шума. Из-за деревьев показался пожилой садовник с корзиной в руках. — Прошу прощения за вторжение, — смущённо улыбнулся он. — Я собираю здесь первые цветы для чая. Прекрасное утро, не правда ли? — Да, утро чудесное, — подтвердил Герман. — Удачи с травами, — пожелал Кирилл. Садовник поклонился и пошёл дальше. Мужчины посмотрели друг на друга и рассмеялись. — Видимо, Вселенная решила, что нам нужна маленькая передышка, — сделал вывод Герман. — Мы провели здесь всю ночь. Я чувствую себя очень уставшим и сонным, но безразмерно счастливым. — Продолжим это утро дома? Я приготовлю тебе завтрак, а ты сможешь полежать и отдохнуть. — Нет, если я лягу, то сразу засну. — Что же в этом дурного? После такой ночи сон будет особенно сладким. По дороге в усадьбу Кирилл захотел сорвать несколько крокусов, но Герман его остановил: — Не нужно, Кирюш. Они такие красивые! Пусть остаются здесь, живыми и нетронутыми, и радуют всех, кто пройдёт мимо. — «Боже, какой он волшебный! — подумал Лаврентьев. — Какие у него чистые и прекрасные суждения! От кого я бы ещё услышал подобное, если не от него?» — уже на крыльце он обнял своего избранника за талию и уточнил: — Ты уверен, что не хочешь поехать на дачу? Там будет весело. — Я не сомневаюсь. Но тогда нам нужно будет взять ещё и Киру, а ей там точно не место. Вообрази, какой кавардак она устроит на свадьбе! О, посмотри вверх! В небе танцуют два сокола! Они тоже нашли друг друга. Может, это ещё один знак? Они ещё некоторое время постояли у дверей, наслаждаясь весной, теплом и близостью друг друга. — Я тут подумал… — снова заговорил Кирилл. — У нас уже было тайное венчание в церкви, но мы могли бы сыграть ещё одну скрытую от посторонних глаз свадьбу на даче. — А тебе не надоест столько раз сочетаться браком с одним и тем же человеком? — С тобой — никогда не надоест! Кирочка тем временем сидела в гостиной и сердито смотрела в задачник. При появлении своих дорогих мужчин она моментально оживилась и полюбопытствовала: — Где вы были? — В саду, — ответил Герман. — А почему меня не позвали? Ай, ладно! Посмотрите, какой я танец вчера разучила! — попросила малышка и запрыгнула на диван. — Осторожнее, не упади! — испугался Кирилл. Движения Киры были мягкими и плавными, а голубые глазёнки блестели от восторга. Когда она закончила, зрители дружно захлопали в ладоши. — Кира, это потрясающе! — Какой талант! Довольная столь высокой оценкой Кира спрыгнула с дивана и, поклонившись, побежала к окну. — А вы знаете, кого я позавчера видела? Двух белочек! — поделилась она. — Они прыгали по деревьям и искали орешки. — Белочки — хитрые создания, — засмеялся Герман. — Они всё время что-то ищут. Слушай, Кирилл, может, пока ты будешь на даче, я снова попытаюсь пробиться в театр? Я понимаю, что уже не могу похвастаться юностью, крепким здоровьем и невинной красотой, но я чувствую, что это моё. Признание Германа потрясло Кирилла как удар по черепу. Он уже не хотел, чтобы его возлюбленный связывался с театром. Во-первых, он уяснил, что люди предвзято относятся к актёрам, попавшим в свою среду с подачи богатых покровителей. И неважно, есть ли у «протеже» способности или нет: не рвал жилы в театральном училище — всё, не получишь никакого уважения, никогда не станешь равным тем, кто «недосыпал, недоедал и кровью и потом завоёвывал своё место на сцене». А во-вторых, Кирилл боялся, что свободные нравы актёрской среды навредят его нежному мальчику. Он с таким трудом вернул Германа к жизни, а тот решил воссоединиться с серпентарием, полным безумного разврата, алкоголя и прочей шелудивой мякотки! — Герман, ты ведь очень болезненный, — напомнил Лаврентьев. — Я постоянно над тобой дрожу, у тебя от малейшего волнения поднимается температура. Мой пламенный, великодушный, порядочный мальчик! Мой самый родной человек на всю жизнь! Если для тебя это так важно, я тебе помогу. Но я боюсь, что тебя там обидят. Видишь ли, наш мир очень неприветлив, несправедлив и жесток. А я не имею возможности быть рядом с тобой каждую секунду. Кирилл всё ещё не мог увидеть в Германе взрослого человека. И сейчас, и много лет назад перед ним сидело невероятно трогательное и беззащитное божество. Весь Герман — в том шёпоте на грани слышимости, что обволакивал слух Кирилла, как дамасский шёл, во время их первой совместной ночи: «Я… Я не знаю… Я запутался, это всё так ново для меня. Я боюсь… Но я не хочу, чтобы ты останавливался», в полном капитуляции стоне: «Хорошо, я твой. Делай всё, что захочешь, я доверяю тебе», в брошенной на подушку белоснежной рубашке — истрёпанной, но такой любимой, и в тепле, которое он излучал даже в самые холодные дни и ночи. Время словно время обходило Германа стороной, сохраняя его уязвимым и невероятно дорогим. И как такого отпустить от себя?! *** Три дня Герман провёл в компании Киры. Дочь не отпускала его от себя ни на минуту, вытягивала его на прогулки в сад, пыталась научить своим танцам, постоянно что-то придумывала, шутила и смеялась. Герман не понимал, откуда в этой маленькой девочке столько энергии, но был рад, что она вернулась к жизни, привыкла к нему и уже не чувствовала себя чужой в своём собственном доме. — Что ты рисуешь, дочь? — спросил Герман у Киры вечером третьего дня, когда они вдвоём сидели на траве, прислонившись к большому дереву. Было очень тепло и спокойно, закат окрасил небо в нежные, розово-золотистые тона, а лёгкий ветерок ласково колыхал траву. — Белочек, пап. Герман обмер. Кира наконец-то снова назвала его папой! — У тебя очень красиво получается. Знаешь, я одно время считал, что искусство всегда рождается от горя и никогда — от радости. Что хорошие картины непременно должны быть драматичными, написанными тёмными красками и потрясать зрителей не хуже удара по голове. Но, глядя на твои работы, я понимаю, что ошибался. Твои рисунки вызывают только положительные эмоции, они солнечные, пёстрые, и это замечательно. Кирочка, а как ты смотришь на то, чтобы приготовить пирог? — Пирог? Конечно! Пойдём в дом! Уже через десять минут на кухне началась весёлая суета. Кира стояла на табуретке, а мука, словно волшебная пыльца, взмывала вверх при каждом её движении, оседая на её волосах и носике и превращая её в маленькую Белоснежку. — Слишком густо получается, — деловито сказала малышка, заглянув в миску, в которой её отец замешивал тесто. — Муки много. Нужно воды добавить. — Разве? — удивился Герман. — Нет, вода здесь точно будет лишней. Я лучше добавлю ещё одно яйцо. Но когда он взял яйца, одно из них выскользнуло из его рук и приземлилось на пол. — Папа, ты сделал яичницу на полу! — расхохоталась Кира. — Дочь, чувствую, когда пирог будет готов, мы проведём соревнование, кто быстрее уберёт кухню. Кира пустила в воздух очередное облачко муки, а Герман попытался увернуться, но поскользнулся на яйце, которое только что разбил, и чудом удержался на ногах. — Если мы уже всё испачкали, может, не будет останавливаться? — с хитрой улыбкой спросила Кира. Герман не успел ответить, как дочь кинула в него пару ягод. — Ах, вот так? Ну держись! Молодой отец перехватил инициативу и начал бросать ягоды в ответ, и вскоре вся кухня превратилась в поле весёлой битвы. С ног до головы покрытая мукой и ягодным соком Кира сияла от счастья, а вот Герману стало стыдно: что он как дитё малое?! Нельзя так безобразно обращаться с продуктами! — Пап, а давай теперь попробуем испечь пирог по-настоящему? — попросила Кира. — Хорошо, только сначала ты примешь ванну. Кира с готовностью убежала в ванную комнату — ей очень нравилось плескаться в тёплой воде с ароматной пеной, а Герман начал приводить кухню в порядок. Через несколько минут Кира, чистая и свежая, вернулась обратно, и они вновь принялись за дело, но уже без дурачеств. — Начнём делать всё по правилам, — сказала девочка, поднявшись на свою табуретку. — Я буду следить, чтобы ты не добавлял в тесто лишние яйца и не ронял их на пол! — Слушаюсь, командир! Процесс приготовления пирога пошёл значительно спокойнее. Герман отмерял ингредиенты, а Кира помогала ему замешивать тесто и укладывать начинку. Через некоторое время дом наполнил изумительный аромат свежей выпечки. — А ты знаешь, что некоторые художники говорят, что самая лучшая муза — это счастье? — спросила Кира, когда Герман подал ей первый кусок готового пирога. — Ты ведь тоже считаешь, что счастливые моменты важны так же, как грустные? Квятковский задумался, а затем кивнул: — Конечно. Счастье делает нашу жизнь яркой и насыщенной, а радость — тоже искусство. В этом и заключена сила твоих рисунков. Кира улыбнулась и начала наслаждаться вкусом сладкой выпечки. — Папа, я хочу нарисовать наш сегодняшний день! — вдруг сказала она, а после побежала за красками. Герман почувствовал глубокую гордость за дочь: что ни говори, он всегда воспитывал её правильно. Ближе к ночи Кирочка попросила его почитать ей сказку вслух, и Герман, конечно, не отказался. — А когда Кирилл вернётся? — спросила Кира, едва отец закончил своё повествование о волшебном мире. — Не знаю, — грустно вздохнул Герман. С отъездом Кирилла словно оторвалась часть его собственного тела, он очень по нему скучал. — Хочешь, я тоже съезжу на дачу и заберу его оттуда? — Ну нет! Останься со мной! Но утром Герман всё-таки уехал, а Кира согласилась побыть с няней, с которой уже оставалась ранее. Дорога на дачу оказалась не самой короткой, но вид полей и лесов, мимо которых проезжал Герман, помог ему настроиться на позитивный лад. До нужного адреса он добрался только к вечеру. Дача выглядела очень красивой, дом в два этажа утопал в деревьях и цветочных клумбах. Но внутри Герман обнаружил только немолодую горничную и трёх незнакомых ему мужчин. — Что вам угодно? — спросил у Квятковского один из них. — Хотите поздравить молодожёнов? — Я, если честно, их не знаю, — засмущался гость. — Я приехал к Кириллу Лаврентьеву. — Подождите, он скоро придёт. Выпить не желаете? Правда, есть только кавказское вино. Другого сегодня не употребляем. — А я и такое не употребляю. — Почему? — Всё своё уже давно употребил. — Вы бывший алкоголик? К счастью, в этот момент послышались шаги. Герман, совсем как Кирилл в такие моменты, подумал: «Вот сейчас дверь распахнётся, и он войдёт», и в комнате действительно появился Лаврентьев. — Герман! — воскликнул последний в величайшем волнении. Вслед за ним зашёл синеглазый парень лет двадцати пяти. — Герман! — повторил Кирилл и обнял своего дорогого гостя. — Это ты! Герман был рад увидеть Кирилла таким жизнерадостным, но в то же время его сердце сжалось от тревоги. Этот молодой человек, что был с его возлюбленным… Кто он? Герман посмотрел на бутылку вина на столе. Надёжное успокоительное находилось совсем рядом. А может… — Познакомься, Александр, это Герман, — сказал Кирилл, повернувшись к своему сопровождающему. — Он художник, актёр, музыкант и совершенно чудесный человек! Александр протянул визитёру руку: — Очень рад познакомиться! — Взаимно, — ответил Квятковский, пожав чужую ладонь. — Герман, ты не представляешь, какие у нас тут дебаты были! — воскликнул Кирилл. — Андрей Петрович, — он указал на одного из присутствующих мужчин, — утверждал, что реализм в живописи изжил себя и что настало время новых течений! Вздор! Моим приятелям стоит посмотреть на твои картины! Они точно будут в восторге! — Не расхваливай меня, — потупил взор гость. — А что касается ваших дебатов… Это спорный вопрос. Но я думаю, нет ничего плохого в том, что искусство движется вперёд. — А вы, Кирилл Ювенальевич, как выяснилось, даже не читали «Манон Леско»! — встал на дыбы Андрей Петрович, которому крайне не понравилось, что кто-то осмелился назвать его рассуждения «вздором». — Герман, надеюсь, хотя бы вам знакомо это произведение? Кирилл заметно стушевался: чёрт, он, сам того не желая, поставил Гермусю в неловкое положение! Вот кто его за язык потянул?! Но Герман вдруг задумчиво наморщил лоб: — Да, я читал этот роман в восемнадцать лет. — И о чём он? Какова, по-вашему, его главная идея? — О том, что любовь и страсть могут довести человека до саморазрушения. И о том, что нельзя позволять жажде роскоши брать верх над моралью. Это то, что происходит везде и всюду, просто мы этого не замечаем. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Среди собравшихся пронеслось восхищённое «оу». Они не ожидали подобного ответа от столь скромного молодого человека. И только лицо Андрея Петровича приняло ещё более ехидное выражение, в котором читалось: «Нет, ты меня не переиграешь, я тебя подловлю!» — Герман, вы хорошо уловили суть. Но вам не кажется, что подобные сюжеты далеки от современности? — Как это? — Герман снова улыбнулся своей очаровательной, непосредственной улыбкой. — Разве любовь, страсть, борьба и мораль могут устареть? Эти понятия вечны, как звёзды на ночном небе. Поражённые слушатели зааплодировали. Герман перевёл взгляд на Кирилла, в глазах у которого плавала неподдельная гордость. — Я ведь говорил, что Герман — чудеснейший человек! — сказал Лаврентьев и поднёс руку к щеке своего возлюбленного. — Вы поговорите с ним, он вам ещё и не такое поведает! — сейчас он, как и всегда, смотрел на Германа так, будто видел перед собой настоящее сокровище. *** Вечерний воздух был пронизан ароматами миндаля, вереска и первой травы. Ветер качал занавески на окнах, в печи потрескивали поленья, масляные лампы отбрасывали свет на стены, покрытые старинными обоями. Атмосфера была особенной, умиротворяющей, словно весь мир затаил дыхание в ожидании наступающей ночи. Кирилл держал в руках старенькую, но прилично выглядящую гитару. Его пальцы уверенно скользили по струнам, настраивая инструмент. Первые аккорды оказались нежными, мелодичными и заставили всех притихнуть. Герман, как и все присутствующие, не мог отвести взгляда от этого удивительного музыканта. Ему казалось, что наигрываемая Кириллом мелодия была написана именно для сегодняшнего вечера, и его сердце наполнялось благодарностью и радостью от того, что всё складывалось так чудесно: от того, что они с Кириллом были вместе, от того, что их никто не пытался разлучить, от того, что он, Герман, не побоялся и всё-таки приехал… Не выдержав, Герман поднялся с дивана и сел на пол рядом с Кириллом, положив голову ему на колени. Он понимал, что некоторым гостям это могло не понравиться, но сейчас его это не заботило. Лаврентьев на миг прервал игру и коснулся волос своего возлюбленного. — Это для тебя, — тихо сказал он. Герман кивнул и прикрыл глаза. Музыка стала ещё проникновеннее и нежнее, словно рассказывала волшебную историю без слов. — Красота! — высказался кто-то из гостей, смотря на сию сцену. — Настоящая гармония любви и искусства! Кирилл, окончательно осмелев, поцеловав Германа в макушку, и тот вздрогнул, тщетно попытавшись унять вереницу мыслей в голове. Они любили друг друга так сильно, что эти ощущения порой причиняли им физическую боль, что струилась по их оголённым нервам, как расплавленное серебро. Когда Герман поднял взгляд на Кирилла, то заметил, что тот уже не смотрел на струны — это было необязательно: он помнил аккорды и позиции пальцев, — а тоже был поглощен каждым миллиметром лица своего главного слушателя. Кто-то из гостей вздыхал, а кто-то украдкой утирал слёзы. — «Как интересно, — подумал Герман. — Каждый аккорд словно рассказывает нашу историю — историю борьбы, принятия и неразрывной связи». С последней нотой в комнате воцарилась тишина. Никто не осмеливался первым взять слово и нарушить магический момент. — Спасибо, — наконец прошептал Герман. — Это было волшебно. — Волшебство приходит, когда ты рядом, — ответил Кирилл. Остальные собравшиеся начали осторожно аплодировать. Увиденное и услышанное произвело на всех неслыханное впечатление, но комментариев не последовало. Лишь одна из дам негромко усмехнулась: она поняла, почему между ней и Кириллом утром состоялся такой странный диалог: — А у вас женщина есть? — Нет. А что? — Это я так, для себя. — Женщину для себя? Не понимаю, но не осуждаю. — Да какую ещё женщину для себя? — Я не знаю, о какой женщине вы спросили. — Какой вы странный! Меня мужчины интересуют. — Понимаю. Но зачем вы тогда спросили про женщину? — Я спросила, есть ли У ВАС женщина! — Нет, я же ответил. Кирилл тем временем отложил гитару в сторону и обнял Германа. Тот уцепился за его плечо, как за единственный якорь в бушующем море. — Выйдем на улицу? — спросил Лаврентьев. — С удовольствием. Герману в самом деле захотелось оказаться подальше отсюда, ибо он почувствовал, что они с Кириллом переусердствовали с интимностью. — Признаться, я давно не видела таких настоящих чувств, — вполголоса промолвила одна из присутствующих девушек. — Даже на сердце тепло стало! — Какие красивые мужчины, — подхватила ещё одна зрительница. — Как инь и янь, как две несовместимые совместимости, нашедшие свой идеальный баланс. Герман и Кирилл вышли на улицу. Свет растущей сразу луны упал на их фигуры, словно стремясь запечатлеть эту картину навеки. — Я очень рад, что ты приехал, — сказал Лаврентьев. — Без тебя здесь было так… — Плохо? Кирилл пожал плечами. Не то чтобы плохо… И компания хорошая, и развлечений достаточно. Но… — Пресно. Всякий раз, когда здесь происходило что-то интересное, то, о чём было бы занятно рассказать, я представлял, как рассказываю об этом тебе. И когда натыкался на что-нибудь необычное и увлекательное — от статьи в газете до прекрасного заката — сразу думал: «Вот бы Герману это показать». Для меня не существует другой жизни, кроме как рядом с тобой. Ты стал для меня всем — и светом, и тенью, и солнцем, и дождём, и западом, и востоком. Помнишь, ты говорил, что я мог бы стать поэтом? Вчера я написал вот это, — Кирилл достал из кармана пиджака измятый лист бумаги. — Он шепчет ему: «Ты мой свет или тень? Ты ушёл в одну ночь. Как прожить этот день? Как мне жить без тебя, не решив, не поняв: ты мой свет или мгла? Мир без тебя стал пустым». Тот тихо шепчет ему: «Свет или тьма, любимый, разницы в этом нет. Светом и тенью я с тобой, неповторимый». Герман протянул руку, взял бумагу и начал уже самостоятельно читать только что услышанные строки. Каждая буква была для него как воздух после погружения под воду. — Светом и тенью я с тобой, неповторимый… — повторил он шёпотом. — На обратной стороне — иная версия. Я ещё не решил, какая лучше. Склоняюсь к тому, что обе — стыд и позор, — засмеялся Кирилл. Герман перевернул лист. — Он сказал ему: «Ты мой свет или тень? Без тебя каждый день как затмение лун. Как мне жить, не решив, ты мой сон или явь? Ты мой мир или знак? То есть, здесь или так?» Тот ответил ему: «Свет или тьма — всё одно. Любовь в сердце живёт, я твой, и мне всё равно». — Смысл в том, что истинная любовь не зависит от дихотомий — свет или тьма, сон или явь, — улыбнулся Лаврентьев, заметив, каким серьёзным и задумчивым стало лицо его избранника. — Всё это второстепенно по сравнению с живущими в сердце чувствами. — Кирилл, ты… — Герман не смог найти подходящих слов. Вместо этого он просто обнял Кирилла, словно боясь, что тот мог исчезнуть, как сновидение на рассвете. — Тише, тише. Я понимаю. Всё хорошо, — выдохнул Кирилл. Герман вдруг напрягся и снова начал кашлять. Попытка унять внезапный приступ не увенчалась успехом. — Чёрт, у меня ведь одежда пахнет табаком, — сообразил Лаврентьев. — Прости, родной. Такая зараза, никак бросить не могу! Но ещё раз попытаюсь, — сказав это, он достал из другого кармана пачку папирос и демонстративно забросил её в кусты вереска. — Ну зачем ты! Лучше бы отдал кому-нибудь! — Пойдём в дом. Здесь становится холодно. Герман бы предпочёл более не показываться на глаза гостям, но не стал спорить с Кириллом. Когда они зашли в дом, то увидели, что вся компания заметно расслабилась: кто-то разговаривал, кто-то пел, кто-то разливал вино по бокалам. — Хочешь что-нибудь съесть или выпить? — спросил Кирилл. — Чай, пожалуй, — ответил Герман, чувствуя лёгкий озноб. Кирилл кивнул и ушёл на кухню. Квятковский остался в гостиной, но старался не смотреть на собравшихся. Благо, в его сознании всё ещё звучали сыгранные Кириллом аккорды, и от этого ему становилось спокойнее. — Герман, а как вы относитесь к этому новому художнику, как его… Клод Моне? Герман потёр глаза. К нему подсела симпатичная молодая дама с ясным взором и длинными золотистыми волосами, из которых она, улыбаясь, плела косу. — Моне… У него очень хорошие работы! Такие живые, искренние. Он будто смотрит на мир глазами ребёнка и замечает во всём что-то волшебное и удивительное. — А «Преступление и наказание» вы читали? Как вам Раскольников? — Ой… Кирилл вслух читал, а я рядом сидел. Раскольников странный: всё время думает и мучается! Мне кажется, он именно поэтому несчастен. Чем меньше думаешь, тем легче и счастливее живётся. — А с какими ещё произведениями вы знакомы? Простите меня за навязчивость. Просто с вами очень интересно общаться — вы всё говорите от сердца. — Спасибо большое. Недавно я начал читать «Что делать?» Чернышевского. Мне не понравился Рахметов, но понравилась его методика самоиспытания. Даже самому захотелось начать спать на гвоздях! А Вера Павловна выглядит наивной мечтательницей, которая верит, что можно изменить весь мир при помощи швейной мастерской. Но вообще, мне такие толстые книги читать тяжело. Меня от них в сон клонит! — Понимаю вас, — отозвалась девушка, закончив плетение косы. — Мне тоже часто хочется чего-нибудь лёгкого и интересного. А вы сами что-нибудь пишете? — Ой, да! Пишу! Недавно я закончил сказку о приключениях кота, который решил стать пиратом. — Кота, который решил стать пиратом?! — Именно так! Представьте себе, пушистый комок с чёрной повязкой на глазу, с деревянной лапой и маленьким попугаем на плече. Его зовут Стид Коннет, и он ищет молочные реки на Карибах. Там есть сцены с гигантскими рыбами-пираньями и захватом корабля у кроликов. — Это невероятно! А ещё что-нибудь есть? — Да. Ещё есть история о летающем самоваре и говорящем диване! В ближайшее время думаю ввести в сюжет третьего персонажа — старинный будильник, который считает себя Наполеоном-завоевателем. А ещё… Ой, Кирилл вернулся! Кирилл вошёл в гостиную с подносом, на котором стояли несколько чашек с горячим чаем и тарелка с закуской из жареного сыра с мёдом. — Кирилл, а это что? — удивился Герман, с подозрением посмотрев на блюдо. — Сыр с мёдом? Ты уверен, что это не новый вид пыток для писателей с чересчур богатой фантазией? Кто додумался смешать эти продукты? Сыр и мёд… Как кошка с собакой на одной подушке! Но выглядит красиво. Представляешь, походит сыр к мёду и говорит: «Давай дружить, сладкий!» — но всё же взял вилку и попробовал предложенное угощение. — Ладно, признаю, они неплохо поладили. Очень разные, но вместе — идеальные. Как мы с тобой, правда? *** Ночь продолжала укрывать дом тьмой. Гостиная постепенно пустела, и Кирилл, поддавшись общему веселью, выпил чуть больше, чем планировал. Абсолютно трезвый Герман только с улыбкой наблюдал за тем, как расслаблялся его возлюбленный. В пьяном виде Кирилл не потерял ни своей харизмы, ни изящества — всё это лишь приобрело особый, небрежный оттенок, который буквально сводил Германа с ума. Когда Кирилл разговаривал со своими приятелями, бурно жестикулируя руками и смеясь, у Квятковского будто вырастали крылья за спиной. — Когда пьёшь абсент, возникает ощущение, что разговариваешь с зелёной феей, и она убеждает тебя, что ты можешь летать, — рассказывал Кирилл, зарывшись пятерней в волосы и откинув голову назад. — А потом ты спотыкаешься о стул и понимаешь, что ещё не готов к полётам! Ох, дамы и господа, с вами невозможно беседовать, идите проспитесь! — Герман, будьте добры, объясните своему дорогому человеку, что он говорит полную чушь! — толкнула Германа в плечо одна из девушек. — И оценка искусства всегда зависит от личного опыта и культурного контекста. Нельзя требовать… — Да при чём тут искусство, Мария Константиновна? То, что мы обсуждали ранее, скорее вопрос восприятия… Вот я намедни… — Думаю, в мыслях моего дорогого человека искусство сейчас занимает самое последнее место, — усмехнулся Герман. — Кирилл, как ты себя чувствуешь? — Как тебе сказать… Будто меня накрывает огромной волной, — заплетающимся языком ответил Лаврентьев. — Но это волна счастья, понимаешь? Ты рядом, и всё прекрасно. — Может, тебе отдохнуть? — Отдохнуть? А может, лучше потанцуем? — Нет, Кирюш, пожалуйста. С каждой прошедшей минутой Герман чувствовал себя всё более растерянным. Во-первых, уж очень велик был соблазн взять пример с Кирилла и напиться до зелёных чертей, а во-вторых, он весь вечер и половину ночи играл роль диковинной зверушки в стационарном зоопарке. Его рассматривали, им восхищались, его трогали то за плечи, то за волосы, то за руки, его расспрашивали обо всём и одновременно ни о чём, и он просто-напросто вымотался. В какой-то момент ему захотелось спрятаться от всех под кровать и никогда более оттуда не вылезать. Обычно Кирилл не допускал ничего подобного и оберегал своего суженого от слишком резвых и любопытных обывателей, но сегодня он был опьянен не только вином, но и полным отрывом от повседневности и не отличался внимательностью. — Я очень устал, — тихо сказал Герман. — Герман, а расскажите, о чём ещё вы пишите! — прощебетала какая-то дама. — Герман, а что вы думаете о музыке Моцарта? — решила не отставать от неё её подруга. — Моцарт… — пролепетал Квятковский. — Его музыка — точь-в-точь светлый поток, который обнимает душу и сердце. Слушать его — это как путешествовать по сказочному миру. Даже в таком состоянии он делал всё возможное, чтобы не упасть в грязь лицом, но не ради себя, а ради Кирилла. Повзрослев, он стал ответственнее относиться к отведённой ему роли. — А вы тоже играете на музыкальных инструментах? — Да, я играю на рояле. — Должно быть, вы можете рассказать множество занятных историй, связанных с музыкой! — Да, пожалуй. Например, я часто представляю, что музыка может говорить за нас, когда слова не в силах передать всё, что творится в душе. — Так, прекратите, — строго сказал Кирилл; казалось, он даже протрезвел. — Вы скоро бедного мальчика на сувениры растерзаете! Пойдём, Герман. — Кирилл Ювенальевич, не будьте занудой, — протянула Мария Константиновна. — Извините, но это действительно всё, — Лаврентьев улыбнулся, но в его глазах читалась твёрдая решимость. — Спокойной ночи всем, — он мягко подтолкнул Германа к выходу из гостиной, но, заметив, что тот едва волочил ноги, просто закинул его на своё плечо. — Кирилл, перестань, — испугался Герман. Он закрыл глаза, но тут же снова приоткрыл их, правда, увидел только пробивающиеся сквозь тьму кусочки света. Всё казалось каким-то далёким. — Поставь меня! — Пойдём спать. Герман снова попытался высказаться против, но слова застряли глубоко в сознании. Лишь на полпути к лестнице на второй этаж у него всё-таки прорезался голос: — Кирилл, я тяжёлый! — Ничего, своя ноша не тянет. — Умоляю, только не споткнись на ступеньках! Сквозь полусон Герман услышал звук открывшейся двери, а затем, ойкнув, оказался в груде подушек. Кирилл склонился над ним, оперевшись одной рукой о спинку кровати. Герману стало не по себе — взгляд его возлюбленного, ещё минуту назад бывший спокойным и уравновешенным, теперь наполнился дьявольской страстью. — Кирюш… — Квятковский вновь потёр глаза. В ответ Кирилл только крепче прижал его к себе. — Ты какой-то… другой. — А я сам себя не узнаю. Но мне нравится чувствовать себя настолько свободным. — Ты пьян. Я побаиваюсь. Может, тебе стоит просто прилечь и успокоиться? — Побаиваешься? — в голосе Кирилла послышалась нотка сожаления. Взяв Германа за подбородок, он повернул его лицо к себе. — Напрасно. Я никогда не позволю себе или ещё кому-нибудь причинить тебе боль. Твои чувства для меня святы. Я просто хочу быть с тобой, здесь и сейчас, без всяких преград и условностей. Позволь мне любить тебя по-настоящему. Герман, будучи ещё слегка ошеломленным от внезапного переезда через всю гостиную на второй этаж, попытался поднять руку, чтобы безмолвно попросить Кирилла соблюдать дистанцию, но тот оказался быстрее, некрепко схватил его за запястье и прижал к спинке кровати. — Кирилл, тот парень, который зашёл с тобой в дом в начале вечера… Кто он? — Да бог его знает! Кто-кто, один чёрт в пальто. — Что-то у тебя и бог и чёрт в одном флаконе. Ну он ничего, правда? — В каком смысле? Ну… нормальный вроде. — Он тебе понравился, да? — Герман, я его совсем не знаю! Мы просто курили во дворе. — Но хотел бы узнать? — Да о чём ты говоришь? — О том, что он лучше меня. Кирилл постарался придать своему лицу серьёзное выражение, но это оказалось выше его сил. — Гермуся, как тебе такое пришло в голову? Думаю, после сего приступа ревности я просто обязан доказать тебе свою любовь. Герман не успел ответить. Кирилл склонился ближе, и их губы встретились в горячем, ненасытном поцелуе. Квятковский почувствовал, как жар Кирилла передался ему и проник до самых костей. Сопротивляться уже не хотелось, но лёгкий страх ещё не отступил. — Кирилл, постой. Тебе нужно отдохнуть… — Ты не представляешь, что я чувствую. Твои слова, твои движения, твоя улыбка… Всё это делает меня безумным. Я так долго сдерживался. — А как же гости? Вдруг они что-нибудь услышат? Пальцы Кирилла быстро распахнули рубашку Германа. Даже сейчас он исследовал каждую линию и каждый изгиб тела своего возлюбленного с таким трепетом, будто это была карта неведомой земли. Герман чувствовал, как губы Кирилла осторожно, почти ритуально, опускаются по его шее, оставляя невидимые дорожки, которые светились бы, если бы могли. — Герман, твоя кожа… — восхитился Лаврентьев. — Она как самый нежный атлас, которого я когда-либо касался, — он знал, что Гермуся всегда нуждался в постепенном разогреве и в искренних комплиментах, дабы полностью раскрыться. — Чувствуешь, как бьётся моё сердце? Это из-за тебя. Не волнуйся, никто ничего не услышит. Я заберу тебя в мир, где не будет никого, кроме нас двоих. Герман почувствовал сильные удары сердца Кирилла под своими пальцами, и это придало ему уверенности. Он приподнялся и начал отвечать на ласки и поцелуи с не меньшей силой. — Хорошо, Кирюш. Забери меня в этот мир. Я хочу тебя. Боже, как сильно я хочу тебя! С рассветом комната начала наполняться розоватым светом. Кирилл открыл глаза и схватился за гудящую от похмелья голову. — Кошмар, — постановил он, облизнув пересохшие губы. — Как давно я не принимал участия в пьянках! А это ещё кто? — с этим вопросом Кирилл отодвинулся от лежащего рядом с ним человека. Его сердце заболело от непонимания и паники. — О, господи… Нет, я не мог! Он попытался подняться, но тело протестовало против любого движения. Комната, в которой он находился, была ему незнакома. Воспоминания о вечере приходили очень неохотно: много людей, смех, дебаты об искусстве с бокалом вина в руке… — Да кто это? — повторил Лаврентьев и протянул руку, чтобы убрать прядь волос с лица спящего парня, хотя и догадывался, что в полумраке чужие черты будут едва различимы. Тот что-то пробормотал и перевернулся на другой бок. Кирилл присмотрелся, и у него отлегло от сердца. — Герман, — выдохнул он и улыбнулся сквозь слёзы. Герман медленно открыл глаза и приподнялся на локте: — Кирилл, что с тобой? Чем ты так напуган? — Ничего, — Кирилл с радостью прижался к знакомому плечу. — Слава богу. Я подумал, что совершил что-то непоправимое. — Всё в порядке. Ты перепил, но не сделал ничего плохого. Герман потёр правый висок. Да, ничего плохого, если не считать, что от них наверняка отвернутся все друзья. То, что они устроили в гостиной, эти объятия, поцелуи в макушку, признания и, как апофеоз, уединение в спальне… — «Я дал себе зарок сдерживаться, но всё же стонал, цепляясь за простыни, за плечи Кирилла и за всё, что могло бы удержать меня на грани этого безумия, — подумал Герман. Тут его взгляд упал на подушку: — Ещё и наволочку порвал. И с каким лицом я выйду из комнаты? Всё, решено! Буду сидеть здесь до глубокой старости! Пусть Кирилл приносит мне сюда печенье и молоко! В конце концов, это он во всём виноват!» — У меня, кажется, провал в памяти. Когда ты приехал, родной? — Ближе к вечеру. Я… Кирилл, мне нехорошо. Кирилл приложился губами к по-детски нахмуренному лбу Гермуси. — Ох, у тебя жар! Хорошо, что у меня есть все необходимые тебе лекарства. Герман закрыл глаза. В темноте замелькали красные пятна, которые вскоре трансформировались в бескрайнее кровавое море. Он слабо застонал и увидел чёрных котов: хвосты у них были очень длинными, а уши — широкими, как капустные листья. — Господи, ты даже голову едва держишь! Нужно срочно послать за доктором! — Не надо, Кирилл, — возразил Герман, вынырнув из горячечного сна. — Я не хочу, чтобы кто-то видел меня в таком состоянии. Это просто обострение. Я привык. — Нет, это слишком серьёзно. Я не могу пустить всё на самотёк. До приезда доктора я сам о тебе позабочусь. Нужен таз холодной воды, тряпка… Что ещё… К чёрту плотное одеяло! Я укрою тебя чем-нибудь лёгким. В тревожном напряжении Кирилл смотрел, как Герман снова погружался в сон, и с ужасом осознавал, что ситуация могла вот-вот выйти из-под контроля. *** Герман медленно приходил в сознание, ощущая под собой знакомые руки. Тяжёлая ночь осталась позади, как и непродолжительная горячка, и теперь ему нужно было понять происходящее вокруг. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Кирилл, прижав Гермусю к себе. Доктор уже уехал, оставив необходимые рекомендации, но Лаврентьев не мог успокоиться. Его сердце бешено колотилось от волнения, и он всматривался в лицо Германа, будто боясь, что тот сейчас снова закроет глаза и уже никогда не откроет их. — Лучше, — прошептал Герман. — Прости меня, родной. Вчерашний вечер… Я не должен был позволять себе такое. Ты заслуживаешь лучшего отношения к себе. Ты с таким трудом отказался от алкоголя, а я напился в твоём присутствии. Герман слабо улыбнулся и, протянув руку, коснулся щеки Кирилла. — Всё хорошо, Кирюш. Ты имеешь право на отдых и веселье. — Я не причинил тебе боль ночью? — Нет. Ты был страстен, но не жесток. Мне всё очень понравилось. — Рад это слышать. И ты не сердишься на меня за то, что я не спас тебя от чужого внимания? — Нет, не сержусь. Ты пытался делать всё, что в твоих силах, но иногда лучше просто принять происходящее. Когда мне становилось трудно, я смотрел на тебя, и это помогало мне держаться. Кирилл почувствовал, как Герман полностью растворился в его объятиях. Он не знал, что ответить, и как выразить тот хаос эмоций, что бушевали внутри, но его тело знало, поэтому он ещё крепче обвил Германа руками, желая навсегда остаться с этим теплом. — Знаешь, ты всегда смотришь на меня так… — прошептал Кирилл. — Твой взгляд проникает в самую глубину моей души. Иногда мне кажется, что я живу только в те моменты, когда встречаюсь с тобой глазами. Герман попытался улыбнуться шире, но попытка не увенчалась успехом. Не в силах сдерживаться, Кирилл наклонился и бережно поцеловал своего избранника. Герман ответил на поцелуй — хоть и слабо, но с глубоким чувством. В этот момент дверь приоткрылась, и несколько решившихся проведать больного гостей замерли на пороге. На их лицах можно было прочесть разные эмоции: от удивления и раздражения до облегчения и восторга. — Они такие красивые вместе, — прошептала одна из девушек. — Подумаешь! Сцена точь-в-точь как в дешёвом романе, — возразил какой-то парень. — Вы от их соплей за весь вчерашний вечер не устали? Кирилл резко оторвался от Германа и бросил яростный взгляд на нахала. — Повтори, что ты сейчас сказал, — потребовал он. — Что услышали, — парень не ожидал такой реакции, но пока не испугался. — Зачем выставлять свои порочные наклонности на всеобщее обозрение? Уважайте взгляды других людей. Ваше место — не здесь, а среди таких, как вы. Кирилл угрожающе поднялся с места. Герман, поняв, что дело запахло жареным, схватил его за руку: — Кирилл, не надо! Не обращай внимания! — Наше место — там, где мы вместе, — прошелестел Кирилл, едва сдерживая первобытную ярость. — И ни одно мнение этого не изменит. Ваши предрассудки — это ваше бремя, и мы не будем нести его на своих плечах. Вы говорите о порочных наклонностях? А я вижу перед собой человека, полного злобы и желчи. И кто из нас более порочен? Герман сложил руки у рта и прошептал: «Ой, ядрёна вошь!», но потом закивал головой, как китайский болванчик. Он знал, что Кирилл умел красиво говорить, но подобной речи всё-таки не ожидал. — Кирилл, может, уже поедем домой? — взмолился Квятковский, когда тишина в комнате стала угрожающе-бесконечной. — Пока ещё что-нибудь не случилось! — Домой? Конечно. Но перед этим… Кирилл почувствовал, как внутри него утихает буря, к счастью, так и не разразившаяся в полную силу. Он взглянул на Германа, в его уставшие, но любящие глаза, и понял, что больше не хочет прятаться. Он вспомнил всю их историю: как Герман в ресторане во всеуслышание сказал, что любит его, а он, дурак, зашипел: «Я столько лет скрывался не для того, чтобы ты сдал меня с потрохами!», как он не брал своего единственного настоящего возлюбленного в разъезды и на мероприятия, как женился на Ольге только чтобы заткнуть людям рты… Каким молодым и глупым он тогда был! Надоело! Хватит притворяться, хватит жить в страхе перед чужими взглядами. После всего пережитого они с Германом точно заслужили быть счастливыми и свободными. Кирилл ещё раз обнял Квятковского и посмотрел прямо на присутствующих. Герман занервничал и попытался вырваться, но куда там! — Перед этим я покажу вам, что такое настоящие чувства. С этими словами Кирилл страстно поцеловал Германа. Это был не просто поцелуй — это был акт протеста, декларация их любви и прав на неё. И в этот акт был вложен весь спектр испытываемых Кириллом эмоций: боль от прошлых обид, невероятная решимость и облегчение. В комнате повисла мёртвая тишина. Казалось, даже стены и потолок в шоке наблюдали за этой сценой. — Ну а теперь, когда все всё узнали и увидели, — наконец прервал молчание Кирилл, отстранившись от Германа, но не отпустив его руки, — мы с Германом поедем вдвоём. Вместе. И отныне, приглашая меня на свои посиделки, не надейтесь, что я приеду в одиночестве. Герман почувствовал, как что-то дёрнулось к основанию его черепа и рухнуло вниз. Он понял, что теперь Кирилл останется без друзей. А для него это плохо, его всегда окружали люди! Да не абы какие, а красивые, творческие, образованные и знаменитые! Талантливость Кирилла ни в чём более не сказывалась так ярко, как в умении сходиться с элитой или, на крайний случай, с богемой. Герман помнил начало их истории, помнил, как Кирилл почти каждый день устраивал пиршества в столовой и всякое новое знакомство считал настоящим праздником. — «Вот на кой чёрт я сюда притащился? — подумал Квятковский. — Дома мне, балбесу, не сиделось! Снова всё испортил и создал конфликтную ситуацию! Со стороны может показаться, что я делаю всё возможное, чтобы Кирилл ни с кем не общался! Безусловно, мы с ним любим друг друга, но всё это как-то… Не из этого я круга, хоть тресни! Однажды влез со свиным рылом в калашный ряд и до сих пор не вылез!» И это чёртово социальное неравенство просачивалось во все аспекты их совместной жизни, отравляя даже самые светлые моменты. Под тяжестью чужих предрассудков их счастье казалось лишь кратким всполохом в бесконечной тьме. *** Через время Герман всё-таки вернулся в театр, вот только проблемы там у него начались с первого же дня. Когда Герман узнал, что у него будет отдельная гримёрная, он впал в состояние вялотекущего шока. Обычно такой роскошью обладали лишь ведущие актёры, а он — какой-то хрен с горы, вчерашний уборщик! Ему-то это за какие заслуги? — Неужели вы думали, что Кирилл Ювенальевич позволит вам ютиться в общей гримёрной? — беззлобно хмыкнул Анатолий Петрович, но очень скоро посерьёзнел. — Герман Александрович, давайте откровенно: мы оба знаем, что, в первую очередь, вы попали сюда по связям. Но, к счастью, я помню, как вы играли раньше — ваш талант был очевиден. Но вы должны понимать, что раз вам позволено больше, чем остальным актёрам, то и требования к вам будут выше. Вы будете обязаны вновь вернуть моё доверие. Как я уже говорил ранее, скромные романтические герои, для которых вы идеально подходите, ныне не востребованы, но я придумаю, что с этим сделать. У нас намечается спектакль с очень интересным персонажем — светловолосым и ясноглазым принцем. Только одна незадача: принцу по сюжету восемнадцать лет. Думаете, справитесь? — Мне, конечно, не восемнадцать, — засмеялся Герман. Смех получился вымученным. Сколько времени он потерял! Все молодые годы, вообще все… В самом расцвете своих сил, буйства и красоты он стоял за прилавком, стеклил окна и мыл полы в ссудной кассе! Сейчас вот очнулся, решил заняться тем, к чему душа лежала, но как этим заниматься-то, когда он уже слишком взрослый, слишком нездоровый и слишком изломанный? — Но я готов попробовать. В конце концов, единственное, что мне удалось сохранить в себе с юности — это хрупкость и изящество. В глазах у Анатолия Петровича появился оттенок одобрения. — Вы правы, Герман Александрович. Ваше телосложение и мягкие черты лица позволяют вам выглядеть намного моложе своего возраста. Но вам придётся работать над внутренним состоянием персонажа. Передать наивность и неизрасходованное буйство юности — не самая простая задача. И нужно не «пробовать», а чётко понимать, справитесь вы или нет. — Справлюсь. Я не уверен, что смогу влиться в актёрскую компанию, но зрители будут от меня в восторге. Герман оказался прав, актёры его невзлюбили. Во-первых, он в буквальном смысле умел плакать и выходить из себя по команде. Когда на первой репетиции пришла пора отыграть сцену, в которой король не дал принцу согласие на брак с его дочерью, Квятковский вспомнил, как на порог его съёмной квартиры заявилась Ольга с «серьёзным разговором», и слёзы хлынули по его щекам в два ручья. — Как вы могли отказать мне?! — вскричал Герман. — Я люблю ег… её больше жизни! Вы понимаете, что это даже не от меня зависит? Я просто чувствую это, и всё. Последние фразы были импровизацией, но наблюдающий за репетицией Анатолий Петрович не сказал ничего против: ему понравилась эта непосредственность, которая так свойственна юнцам. Актёр, играющий роль короля, попытался ответить с уверенностью, но его слова потерялись на фоне эмоций Германа. — Очень талантливый молодой человек, — сказал художник-постановщик. — В нём всё как-то «очень». Невозможно тонкий, неординарный, пылкий. Роль у него не главная, да и внешность не самая яркая, но от одного его вида почему-то наступает ступор. Не зря ведь Анатолий Петрович так переживал, когда он ушёл. Редкий молодой актёр может похвастаться признанием от художественного руководителя. — У него очень интересное лицо, — вторил ему костюмер. — Он какой-то свой, родной, точно твой сосед, сослуживец или друг детства. С такими внешними данными можно играть кого угодно — от пастуха и торгаша до принца и чиновника. А во-вторых, труппа просто не знала, как реагировать на того, кто недавно убирал грязь под их ногами, а сейчас влез на сцену и получил отдельную гримёрную и аплодисменты от самого Анатолия Петровича. Случай был настолько не по шаблону, настолько вопиющ, что в первые минуты ребята даже между собой всё это не обсуждали: будто ждали, что сейчас из-за угла выпрыгнет человек, который скажет: «Ха, поверили? Это розыгрыш!» Но, когда Герман начал собираться домой, они всё-таки не выдержали. — Слушай, не хочешь пообщаться? — обратился к Герману один из актёров, встав прямо у дверей. — Я не против, — ответил Квятковский. Краем глаза он заметил, как к ним подошли ещё несколько ребят. — Ты действительно думаешь, что заслужил всё это? — Мы все здесь работаем годами, — сказала красивая блондинка с причёской в два яруса. — Но пока не получили ни отдельных гримёрных, ни похвал от Анатолия Петровича. А на тебя, вчерашнего уборщика, вдруг с неба свалились все привилегии. Герман почувствовал, как его лицо залил жар, но постарался говорить спокойно: — Я понимаю, что это может казаться несправедливым, но я, как все, стараюсь и работаю над своей ролью… — Стараешься? Не валяй дурака. Все прекрасно понимают, как ты сюда попал. — И вот что мы тебе скажем, дружок, — один из парней положил ладонь на плечо Германа. Прикосновение было тяжёлым и неприятным, — голубок наш сизокрылый. Мы не потерпим такого паскудства на своей территории. Кому ты греешь постель и что за это получаешь — твоё личное дело. Но здесь тебе не место. Герман ощутил, как его тело напряглось, а мысли начали метаться в поисках подходящего ответа. — Ребята, актёра судят по таланту и работе, а не по тому, как он оказался на своём месте. Да, я воспользовался своими связями, не отрицаю. Но это не значит, что я заслуживаю презрения и оскорблений. Вы не знаете, что я пережил ранее. Если бы отец не выжил меня из дома, когда мне было девятнадцать лет, я бы, как вы, пошёл учиться… — То, что тебя один мужчина выкинул на улицу, а другой подобрал, как котёнка с помойки, мы знаем, — глумливо рассмеялся актёр. — Шила в мешке не утаишь. Вот и сидел бы у него под крылом и не высовывался. Сюда-то ты зачем влез? Это не просто наглость, дружок. Это — непотребство. Здесь уже появлялись дочки и сыночки богатеньких родителей. Мамы и папы, которые в своё время тоже были рождены с золотыми ложками во рту, очень хотели видеть в своих посредственных детках гениев, хотя ни гениальностью, ни даже средненькими способностями там и не пахло. Но любовник светского льва — это что-то новое. Это — огромный плевок в лица всем нам. — Ты хорошо играешь, Герман, — вынужденно признала блондинка со сложной причёской. — А ещё у тебя заразительный смех, удивительные глаза, длинные руки-крылья и красивый голос. Вот только с чем бы ты ни вышел к публике, что бы ни сыграл — шлейф скандала будет тянуться за тобой долгие годы. Тебе придётся отмываться от этой истории перед всеми нами. Казалось бы, бедный парень… А может, не совсем бедный? Может, тебе просто не стоит выходить на сцену? Научись экономике, например. Это полезно, потом будешь помогать своему покровителю в подсчёте его накоплений. Да чем угодно займись, главное, не мозоль глаза нам, актёрам с образованием. — Послушайте… Прежде чем Герман успел что-то ответить, двое переговорщиков достали папиросы и закурили. Герман попробовал отступить, но чужая рука всё ещё крепко сжимала его плечо. — Позвольте мне отойти, пожалуйста, — попросил он. — Я не могу находиться рядом с курящими, у меня больные лёгкие. — Красивый наряд, — зачинщик конфликта отпустил его плечо, но схватился за воротник его рубашки. — Ты всегда выставляешь напоказ свои дорогущие тряпки? — Это рубашка не такая уж дорогая. Ребят, пожалуйста… В этот момент двери гримёрной распахнулись, и на пороге появился Кирилл. Его глаза сверкнули на актёров холодным огнём, а лицо исказилось гневом. — Что здесь происходит? — вопросил визитёр исполинским тоном. Актёры замерли, а тот, кто держал Германа, отпустил его. — Мы просто разговаривали. — Разговаривали? Так, для начала: вы знаете, что в гримёрных запрещено курить? — Кирилл, не надо, — вступился Герман, откашлявшись. — Я в порядке. — Не устраивайте драму, — попросил зачинщик конфликта. Стоящий слева от него парень тем временем потушил папиросу о подошву ботинка. — Мы лишь хотели получше узнать нового члена нашей труппы. — Драму, значит? — усмехнулся Кирилл. — Я сейчас покажу тебе настоящую драму. Он резко схватил актёра за пиджак, тот пошатнулся и упал. Остальные присутствующие застыли в шоке, но быстро пришли в себя и попытались атаковать Кирилла, на что тот только саркастично выгнул бровь: — Вы действительно думаете, что сможете что-то мне сделать? Ребятки, я сильнее каждого из вас. Поверьте, у меня найдётся ответ на любое ваше действие. — Кирилл, пожалуйста! — снова взмолился Герман. Он всегда взирал на вспышки гнева своего возлюбленного словно из укрытия. Они никогда его не затрагивали, были для него снежной лавиной на картине или зверем в клетке. Но сейчас ему стало не по себе. Он не хотел, чтобы актёры пострадали. — Давайте-ка, я вам кое-что объясню, — Кирилл подхватил упавшего парня за воротник и с лёгкостью поставил его на ноги. — Я понимаю, что вы привыкли к своей иерархии в театре, вот только Герман появился здесь не для того, чтобы играть по вашим правилам. И его связи ничуть не умаляют его таланта. Если у вас есть проблемы с ним, то у вас есть проблемы и со мной. В воздухе разлилось такое напряжение, что зеркало на стене едва не треснуло. Собравшиеся привыкли к театральным драмам, но не ожидали подобного поворота событий в жизни. — Талантам нужно помогать, а бездарности пробьются сами, — продолжил Лаврентьев. — И если кто-то сомневается в способностях Германа, добро пожаловать на сцену. Устроим состязание прямо сейчас. Добровольцы найдутся? Актёры переглянулись. В их глазах плавали тревога и смятение. Никому из них не хотелось оказываться в неловкой ситуации, да ещё перед всеми. — Не желаете доказать свою значимость не на словах, а на деле? — вздохнул Кирилл. — Очень жаль. Ещё вопросы будут? Нет? Вот и замечательно. Пойдём домой, Герман. Герман молча прижался к Кириллу и улыбнулся сквозь слёзы. — «Ну вот опять, — подумал он. — Я оказался непонятым и отвергнутым в мире, к которому так стремился. Сколько ещё это будет продолжаться? Когда я смогу просто быть собой?» *** Герман лежал на кровати, укрывшись одеялом с головой. Комната была в беспорядке: книги валялись на полу, одежда была разбросана по стульям и комоду, на столе высились пустые кружки. На краю кровати сидела Кира. Её голубые — точь-в-точь как у отца — глаза светились тревогой. — Пап, почему ты грустишь? — спросила она. — Я не грустный, Кирочка. Я уставший, — ответил Герман. — Посмотри, что я нарисовала, — попросила Кира и подняла вверх альбомный лист с изображенными на нём цветочным полем. Герман поднялся на локте и взял рисунок в руки, стараясь не капнуть слезами на бумагу. — Очень красиво, радость моя. — Нарисуешь мне здесь двух пятнистых коровок? — Попозже. Хорошо? — Пап, не печалься, пожалуйста, — Кира почувствовала, как в уголках её глаз тоже собираются слёзы, достала платочек из передника, высморкалась и продолжила: — Ты расстроился из-за того, что я вечером отказалась есть пшенную кашу? Ну, я её не очень люблю. Да что там! Терпеть её не могу! Не понимаю, зачем меня мучить этой дурацкой кашей! Вот Алевтину Петровну, мою учительницу рисования, в детстве никогда так не мучили! Ой, что я говорю! Папа, если хочешь, я эту противную кашу с утра до ночи буду есть! Правда-правда! Только не грусти, ладно? Я так люблю, когда ты весёлый! И смех у тебя замечательный! Когда ты смеёшься, мне тоже становится смешно! — Нет, моя милая Кира, это не из-за каши, — хрипло захохотал Герман. — И ты не должна есть то, что тебе не нравится. Просто у взрослых бывают плохие дни. Через некоторое время в двери постучали. — Гермуся, можно войти? — осведомился стоящий снаружи Кирилл. — Да, — откликнулся Герман. — О, Кирочка, ты тоже здесь, — улыбнулся Кирилл, переступив порог комнаты. — Я думал, ты в саду. — Кирюсь, папа грустит, — всхлипнула девочка. — Я пыталась его развеселить, но у меня не получилось. Кирилл подошёл к кровати и сел рядом с Германом. — Солнышко, дай нам с папой немного времени, хорошо? — обратился он к Кире. — Почитай что-нибудь или поиграй, а мы побеседуем и придём к тебе. Кира бросила на отца последний взволнованный взгляд и покинула комнату, тихо прикрыв за собой дверь. — Герман, поговори со мной, пожалуйста, — Кирилл хотел заглянуть своему избраннику в глаза, но тот не развернулся. — Так, а это что такое? — тут он обратил внимание на тарелки с остатками беляшей и жареного картофеля на столе. — Тебе ведь это нельзя! — Ну и что? — Хочешь, я принесу тебе что-нибудь вкусное и полезное? — Нет, я хочу только сдохнуть. Кирилл почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Подобные слова от Германа разрывали его сердце на части. Он не мог представить, что с ним что-то случится, он боялся. — Не говори так. — С чего ради? Хочу и говорю! Вместо ответа Кирилл аккуратно обнял своего возлюбленного. Герман попытался оказать сопротивление, но быстро расслабился в обожаемых руках. — Кирилл, я так больше не могу, — пожаловался Квятковский. — Я не справляюсь с жизнью так, как справляются остальные. Этот мир мне чужд, я абсолютно никуда не вписываюсь. У меня нет сил двигаться, чувствовать, разговаривать, врать себе и другим, что однажды всё изменится. К чему это? В жизни всё возможно, даже полное невезение по всем фронтам, и лучше принять это, чем тешить себя надеждами. Ведь с каждым годом всё больнее осознавать, что ты сам себя надурил. — Ты не чужой, — пальцы Кирилла нежно обвили лицо Германа. — Ты просто уникальный. Ты — тот, кого трудно понять, но если какой-то человек увидит тебя настоящего, он не сможет не восхититься. Ты невероятно красивый, бесконечно одарённый, глубокий, и я обожаю тебя. Очень жаль, что тебе так тягостно быть тем, кем ты являешься. Но одно я знаю точно — без тебя у меня не будет сил оставаться в этом мире. — Прости меня, Кирилл. Прости за то, что я настолько слабый. — Нет, ты очень сильный. Даже когда ты думаешь, что не сможешь справиться, ты всё равно продолжаешь бороться. Это и есть настоящая сила. — Ты зря попросил для меня отдельную гримёрную. На протяжении всей нашей прекраснейшей истории ты пытаешься вытянуть меня в элитный слой общества, а я, напротив, хочу оставаться с простыми. Теперь актёры думают, что я — пафосный, зажравшийся и надменный. А я — не такой. Герман обнял Кирилла крепче, впитал в себя всю его любовь и поддержку. Да, несмотря на боль и отчаяние, у него был тот, ради кого стоило жить. Его руки нашли пахнущие древесным парфюмом волосы и начали их перебирать, словно пытаясь навечно закрепить этот момент в памяти. — Нет, не зря. Ты — самое дорогое, что у меня есть. И я не позволю тебе находиться в общей гримёрной, среди идиотов, которые не понимают твоей ценности. Ты — единственный, кого я прошу никогда не трогать. После твоей болезни, когда я увидел, как ты страдал, я пообещал себе, что сделаю всё возможное, чтобы и в дальнейшем защищать тебя и окружать заботой и любовью. Разве я могу допустить, чтобы рядом с тобой обсуждали всякие пошлости, распыляли дешёвый парфюм или, не дай бог, курили? Твоя гримёрная, твоё личное пространство — это не признак пафоса, а признак уважения к тебе, к твоему здоровью и таланту. А ты талантлив. Очень. Это талант на грани безумия, до тебя я не встречал человека, который мог бы разрыдаться по команде. — Кирилл… — едва выдохнул Герман. Он был словно в лихорадке, всё его существо горело от столь красивых и важных слов, от их невыносимой интимности. — Ты говорил, что сегодня хочешь побыть наедине с собой. Я уважаю твой выбор. Отдохни, приведи мысли в порядок, наберись сил перед завтрашней репетицией… — Нет, я туда не пой… — Нужно, Гермуся. Я вижу, что ты этого хочешь. Зачем отказывать своему сердцу в его стремлениях? Да и Анатолия Петровича нельзя подводить. Герман неуверенно кивнул. Всю свою жизнь он чем-то занимался — от написания картин и книг до уборки снега и продажи квашеной капусты. Не было периода, чтобы он долго сидел без дела. Ведь труд — это основа жизни и потребность каждого человека, а праздность — ловушка дьявола. Когда человеку нечего делать, он начинает страдать всякой ерундой, которая впоследствии оказывается губительной для него и окружающих. И в театр Герман решил пойти, в первую очередь, не ради себя, а ради людей. Чтобы быть им полезным, дарить им положительные эмоции и показывать новые грани искусства. Герман никогда не считал свои актёрские и другие способности собственной заслугой. Он был уверен, что ему это дано также, как Кириллу дана его мрачноватая, магическая харизма. А если на тебя что-то свалилось с неба, почему бы этим не поделиться? — Я не знаю… Всё так сложно. Хрупкие откровения Германа задевали все струны души Кирилла. «Воистину чудесный мальчик» сейчас был настолько уязвим и настолько трепетен в своей уязвимости, что Кирилл почувствовал себя варваром, вторгшимся в святилище. — «Нет ни в чём вам благодати. С счастием у вас разлад: и прекрасны вы некстати, и умны вы невпопад», — вспомнились Лаврентьеву строки Пушкина. Он взял руки Германа в свои и начал целовать бледные пальцы, один за другим, словно читая немую молитву восхищения и любви. Его губы скользили по каждому суставчику, по каждой фаланге, и к Герману постепенно возвращались тепло и жизнь; его голубые глаза, в которых недавно таился мрак отчаяния, приобрели новое сияние и надежду. — Я пойду, что-нибудь почитаю Кире. Присоединяйся, когда отдохнёшь. Когда за Кириллом закрылась дверь, Герман остался один в полутёмной комнате. Тяжесть в его душе ослабла, невидимая пружина, что стискивала сердце, разжалась. Он снова закутался в одеяло и решил поспать, а проснулся глубокой ночью, с жуткой головной болью и резью в глазах. Кирилла рядом не было и, наверное, поэтому царящий вокруг полумрак показался бедолаге не уютным и успокаивающим, а гнетущим. Пошатываясь, Герман встал с кровати и подошёл к окну. С улицы не было слышно ни звука. — Кирилл… — прошептал он. — Где Кирилл? Сердце застучало быстро и гулко, словно предупреждая его обладателя о чём-то важном. Герман тяжело вздохнул и, почувствовав головокружение, схватился за подоконник. Сидеть в комнате ему больше не хотелось, спать — тем более. Он поёжился от прохлады, переоделся в подаренный Кириллом кардиган и вышел в коридор. В гостиной горел приглушённый свет. Кирилл сидел на диване с тетрадью в руках. Услышав шаги, он приподнял голову и улыбнулся. — Гермуся, — ласково сказал мужчина, — ты проснулся. — Да, — Герман неловко потёр плечо. — Чёрт, у меня голова раскалывается. — Я очень рад, что ты пришёл. Герман опустился на диван и прикрыл глаза. Комната была наполнена тихим теплом и неосязаемым присутствием любви. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Кирилл. — Лучше. Рядом с тобой — всегда лучше. Что читаешь? — Старые заметки. Грехи моей молодости, то, что я написал десять лет назад. — Да ладно?! Покажи. — Держи. Но предупреждаю, это далеко не самый удачный мой труд. Как я шучу в подобных случаях: «Хорошая работа, если её не читать». Герман взял тетрадь и начал листать слегка пожелтевшие страницы. Почерк Кирилла был неаккуратным и размашистым, но в этом была своя прелесть: как будто слова рвались наружу, не терпя задержки, и находили жизнь на бумаге. «Сегодня мне приснился странный сон. Я стоял на краю обрыва, и внизу шумело море. Но вместо волн там были не рыбы и не птицы, а белые цветы. Каждый раз, когда ветер приносил бризы, цветы складывались в узоры. Они разговаривали со мной на языке, который я ощущал, но не понимал. В этих узорах я увидел своё отражение, но оно было разбито, как осколки старого зеркала. Я стоял и смотрел, пока не почувствовал, как кто-то берёт меня за руку. Я обернулся и увидел женщину с зелёными глазами. Она улыбалась, и её присутствие приносило тепло». — Это было во время моего путешествия в Европу, — сказал Кирилл, наблюдая, как Герман вчитывался в строки. — Тогда я пытался понять, что такое счастье и какова его природа. «Прибыв в Рим, я сразу ощутил волнение от встреч с древностью. Сегодня я решил отправиться на экскурсию по Колизею, в компании молодого итальянца по имени Марко, который гордился своим знанием всех тайн Рима. — Сегодня, — начал он, как только мы вошли внутрь, — я покажу тебе нечто особенное. Он привёл меня в одну из малоизвестных зон, где мы наткнулись на группу туристов из Англии. Среди них выделялась мисс Эмили, с её ярко-рыжими волосами и громким смехом. Она сразу же принялась рассказывать историю о том, как в прошлой жизни была гладиатором, сражавшимся здесь. — Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша душа намного старше вас самих? — спросила она, глядя на меня с интересом. — Каждый раз, когда пытаюсь встать с кровати по утрам, — ответил я». Герман не смог удержаться от улыбки и перевернул страницу. «Сегодня встретил Джованни, итальянского художника, который утверждает, что однажды видел единорога в Тоскане. Он сказал, что это было после третьего бокала красного вина, но я склонен верить, что это был четвёртый. Джованни — персонаж не менее фантастический, чем его истории. Он носит огромную шляпу и всегда при себе имеет три пера павлина. Говорит, что это приносит удачу в любви. По его мнению, чтобы завоевать сердце дамы, нужно не только писать картины, но и разрисовывать дом, причём в прямом смысле слова». Герман продолжил чтение. «На мосту я встретил молодую парижанку. Мы разговорились, и она начала объяснять мне, что в Париже нужно обязательно попробовать местный деликатес — улиток. Как только мы вошли в ресторан, я сразу почувствовал себя как на сцене театра — вокруг меня вертелись официанты, одетые так, будто они на приёме у самого Наполеона. Моя спутница Эжени заказала нам «escargots» с такой лёгкостью, как будто мы собирались отведать булочку с маслом. Я с опаской смотрел на маленькие раковины, стоявшие передо мной, и не знал, как к ним подступиться. Эжени, заметив мои колебания, засмеялась и показала, как правильно это делать. Сказать по правде, на вкус они оказались вполне съедобными, особенно с хрустящим багетом и бокалом вина». — Герман, ты уверен, что хочешь продолжить? — спросил Кирилл, когда Герман в очередной раз перевернул страницу. — Я не против, но то, что там прочтёшь, может быть для тебя… не очень приятным. — Мне интересно. «Сегодня я встретил Антуана, человека с необычайной харизмой и загадочной аурой. Мы познакомились на одном из литературных вечеров, где он читал свои стихи. Его глубокий голос мгновенно меня очаровал. После чтения мы разговорились и быстро нашли общий язык». — Понятно, — шепнул Герман и поспешил обратить внимание на новую запись. «Сегодня я познакомился с Гансом, мужчиной с ясным взглядом и красивыми руками. Он был владельцем кузницы, что находилась недалеко от моего постоялого двора. Я заметил его, когда проходил мимо, и был заворожен его работой». Пальцы Германа принялись нервно барабанить по краю тетради. «На днях мне повстречалась удивительная женщина по имени Изабелла. Её золотистые волосы и зелёные глаза меня просто пленили. Я пригласил её на танец, и лёгкость в её движениях, её смех и улыбка — всё это влекло». — «Почему? — подумал Герман, чувствуя, как его сердце сжимается то ли от непонимания, то ли от ревности. — В жизни Кирилла было столько талантливых и достойнейших людей, столько удивительных событий, столько страсти и нежности! Почему он в итоге выбрал меня? Я ведь никогда не достигну того же уровня глубины и значимости. Что ему ударило в голову? Почему сначала он затаскивал в свою постель знаменитостей, а потом затащил какого-то голодранца, отставной козы барабанщика, и оставил там навсегда? Что не так с ним или со мной?» — Герман, — позвал Кирилл. — Эти записи — всего лишь отголоски прошлого, воспоминания, которые давно потеряли для меня значимость. Если хочешь, я сожгу эту тетрадь. — Зачем? Это же огромная часть твоей жизни. Я просто… растерян. Все эти люди, события, впечатления — в них столько яркости и грандиозности. Для меня это — тёмный лес. Ты можешь рассказать мне, как путешествовал по Европе, общался с итальянскими художниками и открывал тайны Рима, а я тебе — только как однажды ел посыпанный пеплом хлеб, потому что больше было нечего есть. На вкус это, кстати, было сносно, почти как яичница. Как ты мог выбрать меня? — Знаешь, я всегда искал в людях то, чего мне самому не хватало. В каждом из них была своя искра, свой талант и своя уникальная сила, но никто из них не обладал тем, что есть у тебя. — Да что у меня есть-то? — Всё. Но в первую очередь — свет. Даже не просто свет, а сияние, которое пронзило меня насквозь и заставило всё встать на свои места. Ты — мой маяк, мой источник вдохновения, мой смысл и мой дом. Герман осознал, что в этом хаотичном мире, полном отчаяния и тьмы, он стоял на грани, где каждый шаг мог стать последним. И хотя безысходность подкрадывалась к нему, как хищник в ночи, Герман знал, что любовь Кирилла — единственная нить, за которую он цеплялся, чтобы не сдаться в бесконечной борьбе с самим собой и обстоятельствами. *** Следующие несколько репетиций прошли без инцидентов, но Германа что-то продолжало беспокоить. Он чувствовал себя на своём месте, но в чужой коже: будто весь мир был в заговоре против него. От других актёров Герман отличался глубиной восприятия. Если они сосредотачивались на чётком исполнении своих ролей и заучивании слов, то он выходил за пределы сценария, импровизировал и пытался понять каждый жест своего персонажа, оживляя его в глазах зрителей. Иногда это приводило к казусам. Например, в одной из сцен герой Германа должен был лежать рядом с канделябром с зажженными свечами. Германа предупредили, что ему нужно быть осторожным, но тот будто нарочно всё ближе и ближе двигался к открытому огню. Когда пламя едва не задело рукав его рубашки, драматургу пришлось поставить возле канделябра человека с привезенным из Европы переносным огнетушителем. — Искра внутри меня стремится наружу, — после объяснил Герман. — Огонь видит во мне своего союзника. Во время сцены, где нужно было показать момент отчаяния и безумия, Герман снова слишком сильно вжился в образ. По сюжету он должен был воскликнуть: «Я не вижу выхода, только тьму вокруг!» и упасть на колени. В этот момент его взгляд стал настолько пустым и отсутствующим, что абсолютно все на сцене поразились и прекратили дышать. — Герман Александрович, вы выглядели так, будто видели эту тьму, — сказал драматург. — Можете называть меня просто Германом, без отчества, — ответил Квятковский. — А тьму, о которой шла речь в пьесе, я действительно видел. В какой-то момент почти всем работникам театра начало казаться, что Герман очень любил спорить, но все его замечания и уточнения были до того дельными и какими-то изысканными, что никто не осмелился поругаться с ним на этой почве. — Я не надену этот костюм, — заявил Герман, осмотрев предложенные ему кафтан и плащ. — Он слишком плотный. Мой персонаж должен чувствовать себя свободно, ибо он принц, а не заключенный в броне. Я сниму верхний слой и самостоятельно его перешью. Когда дело дошло до репетиции сцены с королем — отцом принца — Герман решил отдать сцене всю боль, что копилась в нём долгие годы. Это было сложное сцепление, и когда Герман выкрикнул: «Ты меня никогда не понимал!», у всех присутствующих по коже забегали мурашки. — Как вы это делаете, Герман? — спросил драматург. — Мне показалось, что это не спектакль, а реальная жизнь, переданная со всей страстью! — О, вы не знаете моего отца! — просто ответил Герман. — Я прожил с ним девятнадцать лет и всё это время боролся за право быть услышанным и понятым. Именно из-за него Петербург — мой родной город — ассоциируется у меня с горечью, холодом, голодом и бедностью. Если бы мне пришлось туда вернуться, я бы умер. Мне не нужно было играть. Я просто вспомнил весь свой жизненный путь. Одно из самых необдуманных и рискованных решений Герман принял, когда настала пора репетировать сцену с водой. По сюжету его герой после поражения на поле боя должен был погрузиться в реку, чтобы смыть с себя позор и найти силы для новой борьбы. — Герман Александрович, будьте осторожны, — предостерёг своего любимчика Анатолий Петрович, — мы можем просто использовать эффект мокрой одежды. — Но если я не окунусь в воду, я не смогу передать всю гамму эмоций своего героя, — возразил Квятковский. В начале сцены он стоял на краю импровизированного берега. Рядом находился огромный резервуар с водой. В воздухе витала напряженность — никто не знал, что будет дальше. — Перестаньте, — снова вылез на передний план Анатолий Петрович. — У вас слабое здоровье, мы не можем так рисковать! Но Герман уже подошёл ближе к резервуару и, срывая всё постановочное искусство, ухватился за ковш и окатил себя ледяной жидкостью. Холод поразил его до глубины души, но он не остановился и повторил акт ещё два раза. — Он окатил себя водой и даже не вздрогнул! — поразился костюмер. — И бровью не повёл! — вторил ему один из музыкантов. — Какой парень! Как оголённый нерв! Весь соткан из безудержной страсти всего! Уже который раз выходит за рамки возможного! Однако домой Герман вернулся дрожащим, кашляющим и больным. — Герман, что с тобой? — обеспокоился Кирилл, увидев состояние своего возлюбленного. — Господи, у тебя даже губы синие! Где ты так промёрз? Пойдём в комнату, тебе нужно отогреться. Завтра останешься дома, ни о какой репетиции и речи быть не может. Герман посмотрел на него со смесью усталости и обиды. — Как? Но без меня сцена не будет полной! — Я всё понимаю, но твоё здоровье важнее. — Кирилл, ты не сможешь меня остановить! Ты не знаешь, каково это — жить с ощущением, что ты должен всегда доказывать свою ценность! — Я знаю. Знаю, потому что вижу, как ты сражаешься. Но ты не обязан быть героем каждый день. — Я не герой. Я — просто человек, пытающийся найти своё место в мире. Кирилл напряг плечи, будто пытался удержать бурю внутри себя. Герман почувствовал укол вины. Он знал, что Кирилл прав, но его непокорная, не оставляющая компромиссов страсть к искусству была сильнее всяких предостережений. — Если я пропущу репетицию, всё пойдёт наперекосяк! — воскликнул Квятковский. — Бардак всегда начинается с этого! Сначала одна, потом вторая! Ты сам говорил, что нельзя подводить Анатолия Петровича, а теперь подталкиваешь меня на кривую дорожку! — Гермуся, я тебя никуда не подталкиваю. Но речь идёт о здоровье… — Я не желаю тебя слушать! — и с этими словами Герман удалился в свою комнату. С наступлением утра их ссора продолжилась. — Сколько раз за ночь ты кашлял? — напирал Кирилл. — Нисколько. — Не ври. Я всё слышал. Твоё дыхание было очень плохим. — Да плевать! Я всё равно пойду на репетицию! Я и так долго сидел на твоей шее и не занимался ничем серьёзным! Неужели ты, самый дорогой мне человек, хочешь лишить меня возможности делать то, что я люблю? А если из-за пропуска моя роль уйдёт к другому? — Герман, прости, но ты вынуждаешь меня пойти на крайние меры. Я просто запру тебя в комнате. — Ты не посмеешь! Вот ещё, тиран нашёлся! — усмехнулся Герман и попытался подойти к двери, но Кирилл выставил ладони вперёд, не давая ему такой возможности. — Вот бобёр упёртый! Герман вскинул руки, словно собираясь нанести удар, но остановился и скатился по стене. — Кирюш, пожалуйста! — Прости, но ты нужен мне живым и здоровым. Кирилл вышел и закрыл дверь на ключ. Герман ещё немного посидел на полу и приблизился к окну. На улице ещё витал туман, воздух был свежим. — Время пока на моей стороне, — прошептал Квятковский, дрожа от озноба и внутренней борьбы. — В детстве я часто выбирался из дома через окно, чтобы поиграть с дворовыми ребятами. Техника проста, хоть и требует аккуратности и ловкости. Он нащупал запор на раме и, приподняв окно, отодвинул одну из створок. Та тихо скрипнула, открыв актёру доступ к свободе. Снаружи виднелась старая липа, её ветви почти касались подоконника. Герман огляделся по сторонам и, решившись, осторожно шагнул наружу. Сначала он уцепился за раму окна, а потом — за ветку дерева. Пальцы сжали шершавую поверхность коры, и Герман принялся спускаться вниз. Его руки ходили ходуном, но мысль о предстоящей репетиции придавала ему сил. С дерева Герман спрыгнул на землю и, бросив последний взгляд на дом, пошёл к калитке. — Прости, Кирилл, — всхлипнул деятель искусства. — Но для меня это вправду очень-очень важно. По дороге к театру Герман снова почувствовал, как ветер пробрался под его одежду, напомнив о болезни и стократно усугубив его общее состояние. *** В этот раз кашель Германа был слышен даже на большом расстоянии, но сам актёр этого не замечал. За кулисами царила привычная суета: другие актёры разминались, заглядывая в свои сценарии, костюмеры проверяли одежду, а шум разговоров эхом разносился по залу. Но, когда Герман ступил на сцену, всё стихло. Его глубокий, пронизывающий взгляд заставил всех выпрямиться и собраться с мыслями. И, даже несмотря на кашель, его голос звучал чётко и звонко. — Я стою здесь не потому, что я силён, — продекламировал Квятковский. — А потому, что верю в свет, который каждый из нас несёт в своём сердце. Каждое его слово звучало как откровение. Он говорил о вере с такой искренностью, что наблюдатели забыли, что это лишь игра. — Как вам удаётся так глубоко проникать в суть своего персонажа? — спросил у него драматург после окончания монолога. — Я всегда задаю себе вопрос: «что бы я сделал на его месте?» — ответил Герман. — Я не просто учу роль, я пытаюсь понять, почему персонаж говорит именно это, почему поступает так, а не иначе. И тут костюмер заметил, что руки молодого актёра дрожат от холода и усталости. — Герман, вам стоит отдохнуть, — сказал он. — Вы сделали больше, чем кто-либо от вас ожидал. Квятковский улыбнулся, стараясь не показывать, насколько ему тяжело. — Спасибо, но мне ещё есть над чем работать. Анатолий Петрович и все остальные хотят от меня не просто хорошей игры, а выдающейся. И Герман вновь вернулся к сценарию, вносил правки и обсуждал идеи с драматургом. Даже во время перерыва он не покинул сцену, а продолжил размышления о своей роли. Идеи приходили к нему внезапно, как вспышки света, и он старался запомнить каждую из них. — Ты такой странный, — нежданно-негаданно вставил свои пять копеек один актёр из труппы. — Как будто живёшь в своём мире. — Разве это плохо? — А что хорошего? Ты не можешь принять действительность такой, какая она есть. И неважно, какая это действительность: добрая или злая, лёгкая или сложная, тебе, парню с чудинкой, нужна другая. Готовый сценарий тебе необходимо переписать, грим подправить левой рукой, а не правой, потому что твой герой, как ты выражаешься, «не может краситься аккуратно», а чай, который ты пьёшь во время редких перерывов, — смешать с кофе, потому что так якобы вкуснее. Я всей душой сочувствую твоему покровителю. Обычно такие, как ты, выедают мозги своим ближним чайной ложечкой. — Влад, оставь его, — вдруг попросила та самая блондинка со сложной причёской. Ей всё больше импонировал их новый коллега. — Герман, можешь звать меня Клариссой, — представилась она. — Это мой творческий псевдоним. А Влада не слушай. Он очень хитрый и ушлый. — «Как Витя Семёнов, что ли?» — подумал Герман. — Может, он сам решит, кого ему слушать? — возмутился Влад. — Я хоть и хитрый, но даю дельные советы. Герман, ты выглядишь больным. Что-то серьёзное? — Нет, я просто простудился. — А ты пробовал народные методы лечения? Например, керосин? Герман задумался. Он слышал о таком методе краем уха, но относился к нему с огромным сомнением. — Как это делать? — осторожно уточнил он. — Просто. Нужно смешать керосин с мёдом и пить по чайной ложке, когда становится невмоготу. Главное — не переусердствовать. Керосин — штука опасная. — Что ты несёшь! — повысила голос Кларисса. — Герман, он год назад посоветовал одной певице вызвать преждевременные роды при помощи лаврового листа и кипятка. Она, дурочка, его послушала и через две недели похудела до неузнаваемости! А ещё через неделю не смогла встать с постели. К докторам обращаться побоялась, за неё это сделала приехавшая к ней в гости подруга, но было уже поздно. Бедняжка пролежала в больнице сутки и умерла. — Она как раз переусердствовала, — фыркнул Влад. — Нужно было заварить одну пачку лаврового листа на один стакан кипятка, а она заварила две! Вот организм и не справился. Герман наморщил лоб. Керосин с мёдом? Это звучало безумно, но он и был безумцем. Если это позволит ему скрывать свою слабость от Кирилла и спокойно продолжать репетиции — почему бы не попробовать? — Керосин есть в кладовке, — подсказал Влад. — Наши работники постоянно заправляют им лампы. Там же, наверное, можно и мёд найти. И Герман решился. Через двадцать минут он выпил первую ложку ядрёной смеси. Жидкость обожгла его горло, вызвав приступ кашля. Пришлось зажать рот ладонью, чтобы не привлекать к себе внимания. Но вскоре жжение пропало, оставив после себя лишь странное тепло внутри. — Мне это нравится, — резюмировал Квятковский. Когда репетиция подошла к концу, обессиленный актёр направился в свою гримёрную. Его не покидало ощущение, что он пробежал марафон. Услышав звук открывшейся двери, Герман вздрогнул, как пойманный на месте преступления воришка. На пороге появился Кирилл, чей взгляд выражал злость и восхищение. — Ты действительно неугомонный, — сказал визитёр, зайдя внутрь. — Я наблюдал за тобой на сцене. Ты был невероятен. Но это не отменяет того, что ты сбежал из дома, рискуя своим здоровьем. Герман почувствовал, как его щёки вспыхнули. — Наблюдал? Как долго? Я тебя не видел. — Неудивительно. Когда ты погружаешься в роль, ты не видишь никого и ничего. — Прости, Кирюша. Сцена позвала меня, и я был не в силах ей сопротивляться. Кирилл подошёл ближе, остановившись прямо перед Германом. Гримёрная была наполнена приглушённым светом, тени играли на стенах, как танцующие духи. — Ты заслуживаешь наказания за свою дерзость, — голос Кирилла был строг и тягуч, словно тёмный мёд. — Чего? — горло Германа пересохло от внезапной нервозности. Он не привык видеть Кирилла таким. Этот человек всегда был для него островком безопасности. Единственным, в ком он, Герман, нашёл утешение и исцеление от своих видимых и невидимых ран. Каждое прикосновение Кирилла ощущалось Германом как музыка. А сейчас тот был каким-то… слишком властным. Слово «наказание» прозвучало как удар грома. — Давай не будем устраивать здесь сцен. Я надеюсь на твоё благоразумие. — Я тоже надеялся на твоё благоразумие утром. Рука Кирилла крепко схватила запястье Германа и притянула его вплотную. — Я… Я не думал, что ты… — начал Квятковский. — Отойди, Кирилл. Я… Я не знаю, что делать. — Тебе и не нужно, — ответил Кирилл, и его губы коснулись губ молодого актёра. Этот поцелуй был неистовым, словно буря, разрушившая все барьеры. Герман почувствовал, как тело позорно его предает, несмотря на протесты разума. Он попытался отстраниться, но Кирилл держал его так, словно он был его якорем, его болью и спасением одновременно. — Не здесь же, — пролепетал Герман, когда Кирилл освободил его губы и начал целовать шею. — Тише, — руки Кирилла проникли под чужую одежду и начали исследовать хрупкое тело с новой энергией. Каждое его прикосновение вызывало у Германа смешанные чувства — непродолжительную боль и продолжительное наслаждение. — Ты хочешь этого. Я вижу, как ты трепещешь. — Кирилл, у меня не получится… — прошептал Герман, едва сдерживая слёзы. Его дыхание стало рваным, как музыка, звучащая на самых высоких нотах, — сделать это тихо. Тебе хочется унизить меня перед остальными актёрами? Я… Я не могу… — Ты можешь, — Лаврентьев поднял голову, и в его глазах, полных желания и страсти, Герман увидел отражение своих собственных эмоций. Они были как два моря, встретившихся в одной точке, чтобы стать единым целым. — И ты будешь. Пусть каждая собака в этом театре узнает, кому ты принадлежишь. В голове у Германа царил хаос. Всё, что он знал и кем он был, казалось, смешалось и перетекло в новое, неведомое состояние. В воздухе витали ароматы гримёрных красок и пыли, а в ушах у Германа пульсировал звук его собственного сердца. Он был подобен бабочке, вырвавшейся из кокона и впервые ощутившей лёгкость полёта. Ему казалось, что всё вокруг сузилось до размеров этой комнатушки, и ничего другого не существовало. — Кирилл, — простонал Герман, когда Лаврентьев заставил его прижаться к столику трюмо. И вниз полетели флакон духов и пудра. — Они услышат… — Пусть услышат, — голос Кирилла был полон властного очарования, которое Герман не мог игнорировать. — Пусть узнают, как мы живём и что мы чувствуем. И что настоящее искусство — это не только игра на сцене, но и горящая в нас страсть. В этот момент Герман утратил способность к размышлениям, и все его внутренние запреты растворились, оставив только чистое, необузданное желание. Его тело жило собственной жизнью, как по волшебству отвечая на каждое касание, на каждый шёпот и поцелуй. Он ещё плотнее прижался к Кириллу и обхватил его талию ногами. На столике послышался лёгкий скрежет, как будто зеркало, прикреплённое к нему, протестуя, приоткрыло уголок потаённого мира. Когда Герман приподнял руку, чтобы запустить её в волосы Кирилла, он задел пару театральных масок, и те тоже упали на пол. Одна из них осталась лежать лицом вверх, точно наблюдая за происходящим с пониманием и одобрением. — Кирилл, — слова сами срывались с губ Германа, как поток воды, прорывающий дамбу. — Поцелуй меня так, будто это наш последний миг, будто я — книга, которую ты с жадностью перечитываешь. Не прекращай… — О, я не прекращу. Я буду любить тебя, пока ты не попросишь о пощаде. И их тела сплелись, как стебли роз. — Что там творится? — почесал в затылке один из находящихся в коридоре актёров. — Кажется, Герман решил устроить погром в своей гримёрной. — Он совсем стыд потерял, — проворчал Влад, чувствуя, как в его сердце зарождается то ли ярость, то ли зависть. — Теперь понятно, зачем ему так было нужно… личное пространство! — Не театр, а бордель, — засмеялась Кларисса. — Думаю, страсть Германа на сцене вряд ли сравнится с тем, что он показывает наедине с Кириллом. — Всё, пора расходиться по домам, — дал всем указание ещё один член труппы. — Ну этих срамников к чёртовой матери! Другие бы на их месте и на глаза вдвоём никому не попадались, а они такое устраивают! Будто гордятся своими пороками! Поведение типичных отбросов общества, которым чуждо всякое уважение к окружающим. Но Герман и Кирилл не слышали этих шепотков. Они не слышали ничего, кроме музыки собственных сердец, которые бились в унисон, возвещая о великой драме, разыгрываемой в небольшом пространстве. *** Герман чувствовал себя путешественником, только что преодолевшим бурное море и ступившим на твёрдую землю. Всё его существо пело, но разум требовал осмысления и осторожности. Когда Кирилл начал поправлять и разглаживать его сорочку, он наконец-то решился заговорить: — Наказание удалось, Кирюша. Но нам не следовало делать это здесь, в гримёрной. У меня и так не самые лучшие отношения с ребятами из труппы. А мир театра, как огромный калейдоскоп, мгновенно меняется и запоминает всё, что видит. Кирилл стряхнул с себя остатки страсти и пудры, и посмотрел на Германа взглядом, в котором было всё: понимание, удовлетворённость, трепет и капелька гордости. — Герман, ты — актёр, чья искренность способна осветить любую сцену. В твоих поступках не может быть ничего, что разрушило бы твою репутацию. Всё, что ты делаешь, лишь подчёркивает твою человечность и глубину чувств. — Человечность? — засмеялся Герман, с трудом отстранившись от трюмо. — Кирилл, подобное поведение присуще маргиналам, не знающим, как жить в цивилизованном обществе. Театр — это не только сцена, но и команда, которую нужно уважать. Ты меня здорово подставил. — Подставил? Ты мог бы оттолкнуть меня, но не сделал этого. — Не мог бы. Я не знаю, как ты это делаешь, но… Ты словно из другого измерения. Всякий раз, когда ты ко мне прикасаешься, я теряю голову. — Тебе не стоит переживать. Влиятельные лица в театре от тебя в любом случае не откажутся, а другие актёры… Герман, любовь моя, ты не найдёшь среди них настоящих друзей, даже если вывернешься ради этого наизнанку. И дело здесь не в том, что ты связан со мной, а в том, что ты — не того разлива. Ты слишком приличный, слишком болезный и слишком ранимый. А актёрская среда — это место, где царят страсти, интриги и зависть. Я это уяснил ещё со времён Ольги — прости, если тебе неприятно о ней слышать. Ты очень выделяешься. — Я знаю. Все знают. — Да и кровь у тебя слишком благородная. Дворянское происхождение за халатом уборщика не спрячешь. Посмотри на себя, на свои черты лица и на полный достоинства взгляд. Твоя исключительность — это угроза. Напоминание о том, чего нет и никогда не будет у других. Герман опустил голову. — Получается, я всегда буду одинок? — Нет, — ответил Кирилл, приподняв его подбородок. — Ты только начинаешь свой жизненный и творческий путь. Однажды ты найдёшь тех, кто увидят в тебе не соперника, а друга. Тех, кто будут восхищаться твоими талантами и достижениями, а не завидовать. Герман изломанно улыбнулся. Это был тот редкий случай, когда он не поверил словам Кирилла. Он давно не чувствовал себя молодым и не верил в какие-то улучшения, а фраза «у тебя вся жизнь впереди» вызывала у него панику. Сейчас всё хорошо, но кто знает, что будет потом? Что ещё он перенесёт на своём веку, какая беда свалится на его голову? — Пойдём домой, — Кирилл коснулся плеч Германа; на этот раз нежно, устав держать лицо нетерпеливого дикаря. Даже его взгляд смягчился, будто извиняясь за недавнюю чрезмерную страсть. Всё-таки, Герман был соткан из тончайших нитей света, а потому заслуживал особой бережливости. — Да, конечно. Но Герман не успел сделать и шага, как Кирилл решился на очередной поступок, который бы никого не оставил равнодушным, и поднял его на руки. — Эй, поставь меня! — возмутился актёр. — Ты не слышал, что я говорил до этого? — Я всё слышал. Но ты же знаешь, что я не люблю следовать правилам. — Кирилл, пожалуйста! — Тише, мой дорогой. Я просто хочу убедиться, что ты в безопасности. Когда они вышли из гримёрной, остальные актёры, конечно, не смогли не обратить внимания на эту неожиданную картину. — Ого, вот это представление, — засмеялся какой-то парень в причудливой, широкополой шляпе. — Вы, ребята, будто сошли со страниц романа. — Да ладно, это очень трогательно, — добавила рыжеволосая девушка в роскошном платье. — Герман, ты точно в надёжных руках. — «Откуда она знает моё имя?» — подумал Герман, но вслух ничего не сказал. На выходе из театра лиц мужчин коснулся вечерний воздух. — Я сам могу идти, — прошептал Квятковский. — Мы уже на улице, люди смотрят. Тебе недостаточно того, что театр стал нашей личной романтической ареной? — Пусть смотрят. Пусть все знают, что я готов нести тебя сквозь любые испытания. По дороге домой Кирилл сделал остановку возле цветочного павильона. — Какой букет тебе купить, любовь моя? — спросил он. Герман засмеялся. События последних часов были подобны урагану, который отнял у него все силы. — Мне ничего не нужно, правда. — Хорошо, тогда я сам сделаю выбор. Подожди здесь. Кирилл опустил своего возлюбленного на скамейку у входа, а сам исчез в павильоне. — «Хорошо-то как, — подумал Герман. — Как в сказке». Лаврентьев вернулся через двадцать минут, держа в руках огромный букет. Это было настоящее произведение искусства, собранное из красных и белых роз, пышных пионов, изысканных лилий и множества других растений. — Боже, Кирилл! — расхохотался Герман, завидев этот цветочный ансамбль. — Я подумал, что ты заслуживаешь нечто особенное. Но, кажется, переусердствовал. — Как мы донесём его до дома? Мужчины вдвоём ухватились за стебли цветов, их пальцы переплелись в процессе, и так они стали похожи на двух странников, несущих нечто важное и дорогое. Поначалу всё шло гладко, но вскоре произошла парочка казусов. — Ого, какой букет! — вдруг выкрикнул дворовый мальчишка в коротенькой курточке, с восхищением посмотрев на парочку и на их ношу. К нему присоединились его друзья. — Это для кого столько цветов? — спросила девочка с золотистыми косичками. — Кирилл, — тихо сказал Герман, — может, подарим ребятам несколько роз? — Конечно, — кивнул Кирилл. Лица детей осветились радостью. Получив свои презенты, они прижали их к груди так, словно это самое ценное, что у них когда-либо было. — Спасибо вам, богатые, красивые и добрые люди! — поблагодарила девочка с косичками. — Пожалуйста, — ответил Герман, потрепав её по голове. — Надеюсь, они принесут вам столько же счастья, сколько принесли нам. Следующим испытанием на пути мужчин стал узкий переулок. Герман вздохнул, когда понял, что они застряли между стенами. — Шагай боком, — подсказал Кирилл. И они начали медленно протискиваться, прижимая букет к стене и стараясь не повредить ни одного лепестка. Правда, в какой-то момент Кирилл поскользнулся на небольшой лужице и едва не выронил несколько пионов. — Вот это приключение, — резюмировал Герман, когда они наконец-то дошли до дома. — Зато мы никогда это не забудем, — ответил Кирилл. Донеся букет до спальни, они с облегчением водрузили его на стол. Цветы мгновенно наполнили помещение сладким ароматом, словно сами стены начали дышать. Кирилл подошёл к своему возлюбленному и обнял его. Их губы снова встретились, но этот поцелуй был другим — нежным, медленным и полным взаимопонимания. В воздухе появилась та самая магия, какая бывает только между двумя людьми, готовыми на всё ради друг друга. — Подожди, Кирюш, — вздрогнул Квятковский. Он услышал звук, как если бы кто-то крался по коридору. Через секунду дверь приоткрылась, и в комнату влетела Кира. — Вы вернулись! — обрадовалась она. — Как ты себя чувствовала, пока нас не было? — спросил Кирилл, подняв её на руки. — Мне было скучно, — накуксилась малышка. — Но теперь вы здесь, и у нас есть цветы! Они такие красивые! А можно я выберу цветочек для себя? — Конечно, дорогая. Герман отступил на шаг, и Кира сразу потянулась к красной розе, которая, казалось, светилась в сумеречном свете комнаты. — Вот эта! — воскликнула девочка, сжав цветок в маленькой ладошке. — Спасибо! Она чудесно пахнет! — Ты выбрала самую красивую розу, — промолвил Кирилл. — Она достойна тебя. — А теперь я ещё раз отрепетирую свою роль, — объявил Герман. — И мне будет очень приятно, если вы за мной понаблюдаете. Кира, ты согласна сыграть принцессу? Вскоре в гостиной развернулось настоящее театральное представление. — О, прекрасная Кира, ты словно звезда в ночном небе! — продекламировал Герман. — Позволь мне предложить тебе своё сердце и корону! — О, мой принц, — Кира с радостью поддержала игру и по-королевски приподняла край платья. — Как же мне не принять столь прекрасное предложение! Герман, проникнувшись ролью, продолжил с драматической ноткой в голосе: — Я готов преодолеть любые преграды и победить самых страшных драконов, лишь бы завоевать ваше сердце! Сидящий на диване Кирилл сдержанно засмеялся: — Герман, кажется, драконов у нас в доме нет. Но я слышал, что соседи завели очень злого пса. Может, начнёшь с него? Герман бросил на него слегка обиженный взгляд: — Кирюш, а ты слышал что-нибудь об огнедышащих утюгах и злых сушилках? Они куда опаснее пса! — Это которые пожирают носки и заставляют рубашки садиться до размеров детских платьев? С такими чудовищами даже я не справлюсь! Когда я был молод, подобных напастей не существовало. — Когда ты был молод, кареты двигались с улиточной скоростью, а люди писали друг другу письма на каменных табличках, — подколол Герман. — Именно так. И мой первый учитель был динозавром. Ах, эти славные времена, когда я бегал от него на уроках арифметики! — Надеюсь, ты не пытался его приручить. — Пытался. Но, к сожалению, динозавры не приручались. Они предпочитали гулять на свежем воздухе и составлять таблицы умножения из кустов. А ещё они были склонны к излишнему аппетиту и нередко съедали своих учеников. К десяти годам я успел сменить около двадцати учителей-динозавров. Кира решила не отставать от импровизации взрослых и обратилась к Кириллу: — А динозавры вправду были огромными? — Да, Кирочка. Некоторые из них могли носить на своих спинах целые деревни! Когда они вставали на задние лапы, их головы скрывались в облаках! А другие были такими малышами, что умещались на ладони. Кира заворожено смотрела на Кирилла, представляя динозавров. — А сейчас, дорогие мои, настало время отправиться в мир снов, где принцы и динозавры продолжат свои удивительные приключения, — мягко заключил Герман. *** — Кирилл, ты должен это увидеть! — воскликнул Герман и поставил на стол большую коробку. — Что ты там принёс? Герман открыл коробку и вытащил оттуда яркий шарф с необычным узором. — Посмотри, какая красота! Это часть моего сценического образа! Кирилл приподнял бровь и усмехнулся: — Когда я был молод, такой гадости не было. Мы все носили классические вещи, которые выглядели элегантно и сдержанно. — Ох, да ладно! Я видел те франтовские шляпы и зауженные штаны, которые ты носил десять лет назад! Для меня этот шарф — символ нового времени! Он выражает мою индивидуальность и любовь к искусству. Только представь, как он будет развеваться в свете рампы! — Да ты ж мой красавец. А на голове у тебя что? — Модная причёска! — Герман крутанулся вокруг своей оси. Его волосы были аккуратно уложены и только чёлка — эффектно закручена. — Правда, здорово? — Ты выглядишь как изысканный пирог на званом ужине. Надеюсь, эта конструкция не рассыплется, если я тебя поцелую. Квятковский рассмеялся и игриво толкнул своего возлюбленного в плечо. — Моя новая деятельность обязывает меня выглядеть броско. Анатолий Петрович считает, что без аксессуаров и необычных причёсок я выгляжу слишком скромно и романтично, а театр — это место, где нужно уметь не только играть на сцене, но и привлекать к себе внимание с первого взгляда. — Получается, ты — ходячая реклама спектакля? Тебя можно ставить на афиши вместо плакатов? — Да, — ничуть не обиделся Герман. — Я — живая афиша и визуальный магнит для зрителей. — Прости, но это уничижительно, — нахмурился Кирилл. — Ты сам по себе произведение искусства. Природа наградила тебя такой красотой, что никакие побрякушки и грим её не заменят. Мне больно видеть, как ты наносишь чёрную подводку на свои веки и скрываешь свои небесные глаза под неестественно длинными, как крылья летучей мыши, ресницами. Герман покраснел. Он понимал, что Кирилл говорил свою речь от чистого сердца, и это его тронуло. — Я ценю твою заботу, Кирилл. Но я хочу, чтобы зрители увидели во мне вымышленного персонажа, а это требует изменений во внешности. — Когда ты на сцене, твоя душа светится, как звезда. Разве этого недостаточно, чтобы покорить сердца зрителей? — но, заметив, что Герман расстроился, Кирилл одобряюще улыбнулся: — Но новая причёска тебе идёт. И сейчас я проверю, насколько она стойкая. Он поднялся с кресла, подошёл к своему избраннику и провёл рукой по его волосам, слегка взъерошив их. — Эй! — воскликнул Герман, притворившись обиженным. — Что ты творишь! — но тут Кирилл поцеловал его в губы, и он не смог не ответить. — Ну раскудрить твою через коромысло! — вдруг послышалось из коридора. — Опять свет в ванной не потушили! Что за театр такой? Герман и Кирилл не успели отстраниться друг от друга, как в комнату вошла возмущённая Кира. Её глаза тут же засияли любопытством и восторгом. — Ой! А что вы делаете? — спросила она. — Ничего, солнышко, — ответил Кирилл как можно спокойнее. — Мы с папой обсуждали его новый сценический образ. — Вы целовались! — выкрикнула Кира и сложила ладони у рта. — Нет, — испугался Герман. — Мы просто выясняли, кто съел последнее пирожное! Кира закружилась по ковру, как маленький вихрь. Её длинные волосы развевались, отражая лучи заходящего солнца, проникающие в комнату через большое окно. — Я всё видела! И это явно не пирожное! Кирилл и Герман переглянулись, понимая, что данный момент требует деликатного подхода. — Кира, тут всё сложно, — сказал Герман, сев на одно колено перед дочерью. — Гермуся, не забивай малышке голову, — закатил глаза Кирилл. — Ничего сложного здесь нет. Кира, когда люди любят друг друга, они стремятся это показать. Например, как ты обнимаешь свою любимую игрушку, или как мы с тобой обнимаемся, когда ты грустишь. Когда я целую твоего папу, это значит, что я его люблю и хочу, чтобы он знал, как он мне дорог. — Я знала это, — пожала плечами Кирочка. — Вы думаете, что я маленькая и несмышлёная, но я уже давно поняла, что вы очень любите друг друга. Как в сказках про принцев и принцесс, верно? Только тут у меня два принца! Это так необычно! — Как она… так… — залепетал Герман. Он знал, что Кира очень умная и понимающая, но чтобы настолько… — Любовь — это всегда хорошо, — продолжила девочка. — Любовь — это когда сердце радуется. И когда дома есть мороженое! — Да, Кира, любовь — это когда сердце радуется, — засмеялся Кирилл. — Но не только от мороженого. Ещё и от того, что рядом с тобой есть те, кто тебе дорог. И мы очень рады, что у нас есть ты. И вот, после ещё нескольких репетиций для Германа настало время театрального триумфа. Перед выходом на сцену он вновь почувствовал себя неважно — то ли из-за вечерней сырости, то ли из-за того, что по пути в театр поравнялся и поздоровался с компанией курящих ребят. Но на этот раз решение пришло быстро — мёд и керосин. Выпив в гримёрной две ложки этой ядреной смеси, Герман ощутил уже знакомое тепло в груди, и ему стало легче. — Хоть бы Кирилл не узнал, — опасливо пробормотал Квятковский. — А то он меня потом из дома не выпустит! Он мне заграничные лекарства по пятьдесят рублей покупает, а я керосин хлещу! Но что я могу поделать, если эффекта от лекарства нужно ждать несколько часов, а керосин — это дёшево, сердито и, главное, быстро? Я ведь не перебарщиваю. Сцена в этот день была залита светом, отражающим атмосферу величия и мистерии. Герман в костюме своего персонажа двигался по паркету с такой грацией, что каждый зритель в зале был заворожен. — Я не могу подобрать слова, чтобы описать то, что вижу, — сказала одна из сидящих в первом ряду дам. — Этот мальчишка на одном оголённом нерве показал огромную силу любви. И как после него смотреть на других? На всех этих Васей Пупкиных из третьесортных постановок? — Видно, у этого молодого человека оголённая, открытая душа, — ответил ей её спутник. — Он как живёт, так и играет, на разрыв, без фальши. — «Герман, как жаль, что ты этого не слышишь, — подумал Кирилл. Глазами он следил за происходящим на сцене, а ушами — за происходящим в зале. — Но я тебе всё перескажу». Когда последние ноты стихли, а финальная сцена подошла к концу, зал взорвался аплодисментами. Люди встали с мест, чествуя актёров. — Видишь, какой у нас папа талантливый? — обратился Кирилл к Кире. — Да, папа у нас самый лучший! — кивнула Кирочка и принялась хлопать в ладоши с удвоенной силой. Но сам Герман стоял, опустив голову и ощущая, как его щёки заливает то ли румянец, то ли, напротив, смертельная бледность. Он едва успел отойти в сторону, как к нему уже двигалась дочь с букетом. — Папа, ты самый замечательный актёр на свете! — искренне заявила она. Театр разразился новой волной аплодисментов, а Герман смахнул слёзы и обнял Киру. Однако это было только начало. Зал не успел успокоиться, как на сцену начал подниматься Кирилл. Он снова нёс в руках букет, цветов в котором хватило бы на несколько ваз. — Спасибо, — пролепетал Герман, чувствуя, однако, сильное желание оказаться где-нибудь не здесь. Всё это было как-то слишком, он не привык к подобному вниманию. — Но не стоило так… Кирилл! — воскликнул актёр, когда Лаврентьев опустился перед ним на одно колено. — Встань, прошу тебя! Мы здесь среди… — Герман, я люблю тебя, — выдохнул Кирилл, не пряча глаз. — И мне всё равно, где мы. Пусть хоть ад вокруг! — Ты не понимаешь… Ты хочешь, чтобы нас разорвали на части?! — Пусть разрывают. Я не откажусь от своих слов, даже если мне придётся стоять здесь вечно. От услышанного у Германа задрожали колени. Это было как вызов всему, что их окружало, вызов их прошлому, настоящему и будущему. Взгляд Кирилла говорил: «Я не боюсь и ты не должен бояться». — Спасибо, Кирилл. Я даже… Я не ожидал… Стоящий на одном колене Кирилл выглядел как живой символ преданности и любви. Его скроенный по последней моде костюм сидел на нём как вторая кожа. Наряд был узким и украшенным множеством драгоценных камней, которые мерцали в свете ламп, точно звёзды на бархатном небе. Но внезапно один из камней зашатался, затрепетал, как лист на ветру, и, оторвавшись, упал на сцену. За ним последовали другие — миниатюрные сокровища, ударяясь об пол, испускали тонкие ноты, как музыканты, трогающие клавиши рояля. Герман и Кирилл не успели ничего предпринять, как оказались посреди своеобразного светящего ковра. — Кирюш, кажется, ты разбрасываешься своими звёздами, — улыбнулся Квятковский. Зрители переглядывались, поражённые этим удивительным моментом. Некоторые даже не сдерживали слёз — отчасти из-за красоты происходящего, отчасти из-за того, что стали свидетелями чего-то настоящего. — Это невероятно, — прошептал кто-то. — Словно финал величайшей пьесы! И тут все начали подходить к сцене, тоже неся цветы. Поток казался нескончаемым. Герман немного успокоился, когда увидел, что не все цветы были предназначены ему, но в итоге он всё равно получил больше букетов, чем другие актёры. Несколько ребят из массовки вовсе остались с пустыми руками и Герман, растерявшись, попытался вручить им свои букеты, но те отказались. — «Нужно как-то выйти из этого положения», — начал соображать Квятковский. И он принял решение, которое могло бы выглядеть банальным, если бы не его искренность и обаяние. Осторожно, чтобы не повредить стебли и лепестки, он вынул по цветочку из каждого букета и протянул их проигнорированным публикой актёрам. — Возьмите, пожалуйста, — попросил Герман. — Это маленький жест, но вы все заслуживаете признания. — Как изящно и благородно он поступил! — отметил зритель в первом ряду. — Да, человек с большой буквы! — поддержал его тот, кто сидел рядом. После триумфа, когда зал опустел, а актёры начали расходиться по своим гримёрным, Кирилл снова решительно подошёл к Герману, обхватил его за талию и понёс через весь коридор театра. Герман успел только ойкнуть. — Раньше ты не носил меня на руках так часто, — заметил он. — Что изменилось? — Раньше я был моложе, глупее и не понимал, какое сокровище мне досталось, — ответил Кирилл, а после обратился к стайке актёров у входа: — Ребята, кому-нибудь нужен мешок с талантом и обаянием? Отдам почти даром! К удивлению всех, один из собравшихся, Семён, весёлый и добрый парень, бодро кивнул: — Если почти даром, то я возьму! — О, я не знал, что ты во мне так нуждаешься, — подыграл Герман. — Но учти, что я требовательный «мешок». За углом сцены, там, куда свет не доставал, ещё двое молодых людей — Влад и Константин — обсуждали всё произошедшее. — Как тебе это нравится? — спросил первый, поправив воротник своего костюма. — Боюсь, после такого спектакля вся слава и дальше будет доставаться Квятковскому. — Будь у меня за спиной кто-то вроде Кирилла Лаврентьева, я бы тоже стал знаменитостью, — рассмеялся второй. — В мире всё зависит от того, с кем ты знаешься, а не от того, что ты умеешь. — Слышал я, что он умеет, — презрительно отплюнулся Влад. — И не только я! Их недавнее представление в гримёрной слышал весь театр! Это похуже тайных альбомов и литературы для взрослых! — Я вообще не понимаю, почему мы должны всё это терпеть! — взбесился Константин. — Их в хлеву воспитывали? Никакого уважения к окружающим! — А что делать-то? Не подлавливать же Германа в тёмном переулке с лопатой наперевес! — Может, всей компанией напишем руководству письмо о том, что не хотим с ним работать? — Тут замкнутый круг, Кость. Герман говорит, что он здесь не ради нас, а ради публики. А публика его любит до зарезу — сегодня это было очень хорошо заметно. — Ради публики? Конечно! Заметил, как он пустил слезу на сцене? Всё это показное — «случайно» разлетевшиеся камни на костюме Кирилла — дураку понятно, что они обо всём договорились заранее, моменты с цветами… Отвратительное лицемерие! А розы для массовки? Герман попытался выглядеть великодушным, но на деле подчеркнул своё превосходство: «Вот, посмотрите, какой я щедрый!» — Да чёрт с ним, Влад. Если избавиться от него не предоставляется возможным, значит, придётся дальше подкалывать и оскорблять исподтишка. Бог терпел, и нам велел. — Бог терпел за хороших людей. А мы — за кого? За этого юродивого содомита? Слушай, может, пустим слух, что он заигрывает с драматургом? Это в очередной раз подставит под удар его репутацию. Да и Кирилл после такого сможет его из дома пинком выгнать. — Кирилл не поверит! Ты же видел, как они друг к другу относятся! — Да брось. Мне что-то подсказывает, что их отношения — это просто стремление к необычности. Вроде дворяне, а творят такое бесстыдство, что даже среди простых людей не принято! Меня воротит от этой несправедливости! Герману позволено что угодно, потому что он вовремя подлёг под важного человека, а мы пашем, как волы, но никому до нас нет дела! Ребята ещё раз посмотрели друг на друга и, решив отложить дальнейший разговор до лучших времён, разошлись. Театр продолжал жить своей обычной жизнью, где на каждом шагу царили интриги и страсти. *** После премьеры семья направилась в ресторан — как сказал Кирилл, «отметить триумф Гермуси». Заведение встретило их мерцанием тысяч свечей и люстр. Великолепие здешнего интерьера могло бы поразить кого угодно: высокие своды потолка, украшенные лепными узорами, стены, обитые бархатом глубокого бордового цвета, и большие окна, из которых открывался вид на Москву во всей её красе. Над столиками висели картины в золотистых рамах, изображающие сцены из классических опер. — «Ой, ядрёна вошь», — подумал Герман, поняв, что ему опять придётся чувствовать себя не в своей тарелке, не на своём подносе и в чужой столовой. — Кира, солнышко, как тебе здесь? — спросил он у дочери. — Не слишком ли пафосно? — Пафосно? — переспросила Кирочка. — Какое смешное слово! Мне здесь очень нравится! Всё такое красивое, как в сказке! Кирилл, помнишь, как мы с тобой ходили в тот ресторан на берегу реки? Там тоже было замечательно! И я тогда впервые попробовала те маленькие пирожные, похожие на цветы. — Конечно, помню, — улыбнулся Кирилл. — «Это было в те времена, когда я перебивался с хлеба на воду и хлестал разбавленный самогон», — подумал Герман и почувствовал жжение в глазах. Эти воспоминания создавали между ним и его семьёй невидимый барьер, отделяли его от общего опыта. — А помнишь, как мы катались на лодке? — продолжила Кира. — Ты сказал, что будешь капитаном, и мы исследовали весь залив! — Помню, — подтвердил Кирилл. Герман попытался улыбнуться, но у него вышла мученическая гримаса. — Это звучит замечательно, — сказал он дрогнувшим голосом. — Жаль, что меня тогда не было с вами. — Герман, — позвал Кирилл, заметив изменения в настроении своего супруга. — Я обещаю, мы ещё создадим множество подобных воспоминаний вместе. Кира, не обращая внимания на напряжённость взрослых, захлёбывалась от восторга: — А потом мы с Кириллом ещё раз сходили в тот ресторан на мой день рождения! Там были огромные бумажные фонарики! — Кира, давай поговорим об этом попозже? — попросил Кирилл. — «Соберись, чёрт тебя побери, — приказал себе Герман. — Ты не имеешь права портить праздник своим самым дорогим людям! Выбрось переживания из головы и наслаждайся моментом!» Но наслаждаться было сложно. Когда Герман сел за стол, он почувствовал, что стул под ним пошатывается. — «Может, подвинуть его и уравновесить?» — подумал молодой актёр, но случайно толкнул локтем край стола, отчего стоящий на нём бокал вишнёвого сока покачнулся и опрокинулся. На белоснежной скатерти образовалось тёмное пятно. — Ой, простите, — выпалил Герман. Взгляды всех посетителей тут же обратились на него, и он захотел навсегда уйти под землю. — Ничего страшного, — сказал Кирилл и подал знак официанту. — Думаю, с каждым однажды случалось что-то подобное. Считай это своим дебютом в росписи скатертей. — «Господи, ну почему я всегда такое позорище?» — только и смог помыслить Герман. Он смотрел на пятно на скатерти как на собственную жизнь, которой не удавалось вписаться в сверкающий мир. С каждой секундой оно становилось всё больше, как и тёмное пятно в его душе, как груз, который он таскал с собой и не мог сбросить. Кирилл, как всегда, пытался разрядить обстановку, но Герман видел в его улыбке призрачный отблеск усталости. А взгляд Киры, полный восторга и детской непосредственности, лишь усугублял ситуацию. — «Как я, слабый и глупый, смог стать частью этой полной жизни семьи?» Официант убрал бокал и пятно. Герман захотел его поблагодарить, но слова встали в горле, как части плохо прожеванного куска. Он чувствовал, что эти стены, этот вечер — просто декорации, которые вот-вот обрушатся, как карточный домик. И когда они падут, он останется со своими демонами, что неизбежно поглотят его целиком. — Герман, ты плохо себя чувствуешь? — догадался Кирилл и мысленно дал себе по лбу. Вот на кой чёрт он привёл Гермусю в это помпезное заведение? Да ещё сейчас, когда тот развинчен после чрезмерного внимания публики! Лучше бы предложил устроить уютное чаепитие дома! — Если хочешь, мы можем уйти. — Я просто не понимаю… — Герман поднял голову к потолку, словно надеясь, что после этого слёзы вкатятся обратно в уголки его глаз. Внутренний голос завопил, что ему нужно замолчать, пока он не сказал что-нибудь отвратительное, но язык не послушался. — Что тебя постоянно тянет в такие места? Ты когда-нибудь задумывался, сколько хорошего можно сделать, отказавшись от этой… роскоши? Скольких людей накормить? — сейчас Герман видел перед собой не белоснежную скатерть, а грязные полы, которые он мыл в ссудной кассе. Неизвестно откуда взявшийся запах мыльного раствора смешался с запахами дорогих блюд, в сознании бедолаги замелькали лица людей, спешащих мимо него, не замечающих его присутствия, будто он был сломанным бордюром или комком грязи на дороге. — Я всё видел… Видел работяг, которые отдавали последние гроши, чтобы купить еду своим детям, а сами шли спать голодными, видел старые одеяла, которые ничуть не спасали от лютого холода. Я помню, как мечтал поесть в тепле и не думать о том, что может наступить момент, когда я замёрзну насмерть! И чего ты от меня хочешь? Чтобы я радовался жизни, зная, что за дверью этого ресторана кто-то умирает от голода? Чтобы молча смотрел, как мне на блюдечке подают золотую жизнь, словно в насмешку над теми годами, которые я провёл, пытаясь выбраться из ямы? Как я могу наблюдать за этим блеском, когда у меня перед глазами стоят лица тех, кто остался на дне? Мне повезло, меня спасли, отогрели, отмыли и дали крышу над головой — спасибо большое. А им? Я не прошу тебя понять меня — тебе это ни к чему, ты из другого мира. Но, сидя здесь, я не могу не чувствовать себя предателем тех, кто пережил то же, что и я, но не получил билета в лучшую жизнь. Кирилл ощутил, как в его груди поднялась волна сожаления и беспомощности. Нет, те слова, которые он хотел сказать, не смогли бы унять боль Германа. Этот милый мальчик ел прошлое каждый день, ложка за ложкой. Можно ли считать полноценной личность, на долю которой выпал подобный ад? Это всё равно что считать паралитика обычным человеком. — Бриллиант души моей, я… — голос Кирилла был мягким и тёплым, словно он говорил с ребёнком, — я помогаю нуждающимся, когда могу, но я не в силах спасти всех. И мы с тобой имеем право наслаждаться жизнью, хотя бы изредка. Особенно ты. Ты заслуживаешь этого, как никто другой. — Заслуживаю? — Герман задыхался, пытаясь подобрать подходящие фразы, но те будто избегали его, оставляя одного в лабиринте мыслей и чувств. — Чего я заслуживаю? Смотреть на дурацкие люстры и жрать чёрную икру, пока мои бывшие друзья перебиваются с хлеба на воду? — «Это не друзья, — подумал Кирилл и сжал вилку до побелевших костяшек пальцев. — Это уроды, которые тебя спаивали!» — но вслух ответил: — Ты заслуживаешь тепла, радости и красоты. И это не делает тебя предателем и не значит, что ты забываешь о тех, кто нуждается в помощи. Тебе нужно найти баланс между заботой о других и о себе. К сожалению, я не могу изменить твоё прошлое, но я могу быть вместе с тобой в настоящем. — Зачем мне столько приборов? — вдруг обратился Герман к официанту. — Они предназначены для различных блюд, — пустился в объяснения прыткий молодой человек. — Например, этот нож для мяса, эта вилка — для салата, а этот набор — для десертов. — И это всё придётся кому-то мыть. Может, лучше пожалеть человека? Заберите всё, оставьте одну вилку и одну тарелку. — У нас есть обученный персонал, который занимается этим за плату. Вам не стоит беспокоиться, господин. — Пожалуйста, не называйте меня господином. Я… просто Герман. Официант кивнул и забрал «лишние» приборы, но Квятковский заметил, как взгляд оного пробежался по залу, словно ища спасения от странного посетителя, чьи запросы разрушали привычный всем порядок. — Я устал… Боже милостивый, как я устал, — прошептал Герман и сжал столовый нож. Острие холодного металла показалось ему единственным реальным предметом в мире, полном иллюзий и лжи. — Кирилл, Кирочка… Простите, что я снова всё испортил. Я вас очень люблю, но я — не ваш человек. Я пытался, правда. Но у меня ничего не вышло. Есть такие люди, которые… никуда не вписываются. Я слишком долго жил в тени и привыкал к грязным полам и пустым тарелкам, чтобы забыть это и стать кем-то другим. Кира всхлипнула, и этот звук резанул Германа по ушам, словно натянутая гитарная струна, готовая лопнуть от одного движения. Как он, со своими гнилыми мыслями и потухшими надеждами, смел быть частью жизни Кирочки? Она такая невинная и чистая. Разве можно омрачать её свет? — Пятно от сока аккуратно скрыто, — сказал Герман, указав на стол. — Как и пятна в моей жизни, спрятанные под лоском внешнего благополучия. Но внутри меня эта клякса выросла до размеров вселенной. Но тут он почувствовал тёплую ладонь Кирилла на своём плече. Это прикосновение на время вырвало его из глубин отчаяния, как полуживого котёнка из холодного озера. — Герман, тебе не нужно становиться кем-то другим, — промолвил Лаврентьев. — Мы любим тебя таким, какой ты есть. Ты — часть нашей жизни и нашей семьи. И это не изменится, независимо от того, где ты был и что пережил. Сейчас мне уместно попросить прощения. Я, зная твой характер, привёл тебя в пафосное место, хотя мог бы организовать что-то уютное в домашней обстановке. — Пап, мы можем уйти, — подала голос Кира. Её глаза сияли от слёз, но это были не слёзы грусти, а что-то вроде детской веры в то, что всё можно исправить, если есть любовь. — Ты не подумай, мы с Кириллом не такие! Вот ещё, ресторан! Нужен он нам больно! Да у нас дома готовят ничуть не хуже! И люстры, костюмы, платья — ерунда! — «Чего меня так понесло? — подумал Герман. — Да мне на Кирилла молиться нужно, а я… Тьфу! Другой бы мужчина на его месте давным-давно отправил бы меня на все четыре стороны со словами: «Если не устраивает жизнь в чистоте, тепле, любви и богатстве, возвращайся в свой гадюшник, к грязи, бедности, маргиналам и бутылке». И был бы прав! Он тратит столько денег, из кожи вон лезет, чтобы меня порадовать, а я нос ворочу! Ещё и дочери расположение духа испортил! Теперь она будет чувствовать себя виноватой. А за что? За то, что привыкла к лучшему? За то, что любит красиво одеваться и вкусно кушать? Но ведь это хорошо! И это — заслуга Кирилла. Живя со мной, малышка не видела ничего, кроме пустых бутылок, копоти, полуголых соседей и луж рвоты! Вот что по-настоящему страшно!» Герман замер, уставившись на лежащие на его плечах руки Кирилла. Эти руки были последним мостом, связывающим его с реальностью, и с людьми, которые его любили, и которых он сам, несмотря на внутреннюю боль, обожал всем сердцем. — Кирилл, прости меня, — попросил Герман. Он потянулся к рукам своего возлюбленного, взял их в свои и начал медленно целовать, словно поцелуи могли выразить всю благодарность, что он был не в силах передать словами. — Прости, — повторял Герман, скользя губами по пальцам, которые стали для него верпом в океане эмоций. Когда он достиг ладоней, то задержался на мгновение, чувствуя, как его дыхание смешивается с дыханием Кирилла. Лаврентьев ничего не ответил. Он просто обнял своего беспокойного избранника — крепко и отчаянно, как человек, нашедший свой дом после долгих лет скитаний. — Спасибо, — утёр слёзы Герман. — Спасибо, что ты есть. Спасибо, что не бросил меня… Что веришь в меня. Кирилл прижал его к себе ещё плотнее и прошептал: — Я всегда буду с тобой, Герман. Всегда. *** В течение следующих месяцев Герман принял участие ещё в нескольких спектаклях, и с каждым новым выходом на сцену его популярность росла. Театр, в котором он играл, был не очень большим, особенно по меркам Москвы, соответственно, репетиционные процессы там были сжатыми. На это влияли и финансовые ограничения, и сами ребята из труппы, которые работали на пределе своих возможностей, совмещая репетиции с другими проектами. Всё это вынуждало драматургов и актёров быть максимально оригинальными, находить разнообразные решения для сценографии и костюмов, использовать подручные материалы и минимальные декорации. Но это не снижало качества спектаклей — напротив, публика ценила особую атмосферу здешних постановок. Сцена становилась для Германа настоящим полем для экспериментов. Он совершенствовал своё мастерство, привлекая всё больше внимания зрителей и театральных критиков. Чаще всего Герману поручали роли хрупких юнцов и наивных вчерашних детей. Публику не смущали ни настоящий возраст талантливого актёра, ни горечь прошлых ошибок и потерь в его глазах, но сам Герман был очень придирчив к своей работе и изредка после окончания постановок хотел запереться в гримёрной на часик-другой, чтобы поплакать и приложиться к стакану. — С каждым годом мне будет всё сложнее играть тоненьких мальчишек, — жаловался он Анатолию Петровичу. — Мне придётся затягивать себя в корсеты и наносить всё больше грима. Но дело не только в этом. Такие роли начинают меня тяготить, я чувствую, что могу и хочу большего. Мне нужно расти и искать новые грани в своей работе, а не застревать в образе вечного принца. В конце концов, художественный руководитель прислушался к стенаниям своего любимчика. В середине осени Герман получил роль сына трактирщика. По сюжету персонажу было двадцать шесть лет, но загвоздка заключилась в том, что на протяжении всей постановки он должен был пребывать в состоянии алкогольного опьянения. И вот тут Герман столкнулся с трудностями. Он не понаслышке знал, что такое тонуть в алкоголе, но оказался совершенно не готов разыгрывать всё это на трезвую голову. Тёмные мысли начали подкрадываться к нему, как старая болезнь, как его треклятая проблема с лёгкими, только и ждущая удобного момента, чтобы напасть. Когда в его гримёрную, постучавшись, вошёл Влад — высокий, худощавый парень с острыми чертами лица, тёмными волосами и серыми глазами, часто выражающими недовольство, — Герман сразу напрягся; а уж когда визитёр искривил тонкие губы в ухмылке, ему вовсе захотелось залезть под стол. — Герман, ты как? Готов к репетиции в новом амплуа? — с притворной заботой спросил Влад. — Да, готов, — ответил Герман. — Знаешь, я тут подумал… Тебе ведь будет очень сложно изображать пьяницу. Не хочешь попробовать один трюк? Ради искусства? — Какой трюк? — Ну, как тебе сказать… Просто возьми это, — Влад достал из-за пазухи бутылку водки. — Пара глотков тебе не навредит, а только поможет войти в роль. — Нет, спасибо. Но Влад не отступил. Он сел рядом с Германом, положил руку на его плечо и продолжил: — Не подумай, я не настаиваю. Просто знаю, что так будет легче. Герман почувствовал, как его пальцы начали дрожать. — В нашей компании нужно быть более гибким, чтобы завоевать своё место, — развил новую мысль незваный визитёр. — Ты такой правильный, всё время держишься особняком, считаешь себя лучше остальных и с кем не общаешься. Помяни моё слово, однажды это обернётся против тебя. Ребята уже давненько обговаривают идею написать руководству письмо о своём нежелании работать с тобой в дальнейшем. Ты должен понимать, что здесь свои правила, которые ты обязан соблюдать. — Кому должен — всем прощаю, — огрызнулся Квятковский. — Влад, чего ты от меня хочешь? Чтобы я общался с вами? Если это общение будет нормальным, без издёвок и подстрекательских вопросов, я с радостью. Но вы так не умеете. Вы постоянно меня унижаете и выводите на эмоции. Помнишь, что ты спросил у меня на предпоследней репетиции? «Не планируешь ли ты для разнообразия выступить в женском платье?» По-твоему, это уместно? — Герман, это мир искусства и публичное пространство. Подтрунивания, сплетни и соперничество здесь — обычное дело. Не нужно принимать всё близко к сердцу. Иногда важно уметь посмеяться над собой. — Посмеяться? На этот случай есть хорошая поговорка «смех без причины — признак дурачины». Я не против безобидных взаимных шуток, но для вас односторонние издевательства надо мной уже вошли в привычку. О чём мне разговаривать с людьми, которые могут перейти на грубости после услышанной фразы «Мы с Кириллом вчера ходили в музей»? — А зачем об этом рассказывать? Постыдился бы! — А чего мне стыдиться? Своей семьи? Своего счастья, которое я выстрадал и собрал по крупицам? Может, тебе лучше отчитывать Костю, который на каждой репетиции в подробностях рассказывает всей труппе о своих развлечениях с падшими женщинами? Влад отшатнулся. Он всегда видел в Германе слабого человека, которого можно поставить на место при помощи пары слов, но сейчас перед ним сидел настоящий мужчина, готовый защищать своё, несмотря на внутренние страхи. — Что ты раскричался? Живи с кем хочешь, хоть с японским городовым. Ладно, дабы ты не считал нас извергами… Давай после репетиции куда-нибудь сходим? Поговорим, посмеемся, выпьем, закусим. Мы же одно дело делаем! Нам не полагается собачиться! Вдруг в дверь постучал ещё кто-то. Это оказался Андрей, ещё один актёр, невысокий и крепкий молодой человек с круглым лицом и светло-русыми волосами, которые он крайне редко приводил в порядок. — Ребята, вы чего тут сидите? — спросил он. — Репетиция скоро начнётся! Герман, я тебе кое-что принёс. Замечательное вино! Целый букет, собранный из нот спелой вишни, чёрной смородины и шоколада! Герман резко встал и выставил руку вперёд: — Андрей, уйди. И ты, Влад. Чего вы вьётесь вокруг меня, как змеи?! — Как можно быть настолько неблагодарным? — прищурился Влад. Герман хотел избежать конфликта, но его оппоненты, напротив, лезли на рожон. — Расслабься, что ты как на иголках! — Вы не хотите уходить? Хорошо, тогда я уйду. Андрей толкнул Германа в бок, надеясь спровоцировать ответную реакцию. Тот пошатнулся, но удержался на ногах — драться ему совсем не хотелось. — Вы забыли, где находитесь? — как можно спокойнее задал вопрос Квятковский. — Здесь не место для потасовок, прекратите! Но тут уже Влад резко бросился на своего неприятеля и попытался вцепиться в его волосы. Герман рефлекторно ударил противника локтем в живот и принялся пробираться к выходу, но Андрей подошёл к нему с другой стороны. — Перестаньте, парни! — попросил Герман, закрыв лицо руками. — Что я вам сделал?! Он ожидал следующего удара, но тут послышался грохот открывшейся двери, и появился Кирилл. Он мгновенно оценил ситуацию и, не сказав ни слова, стремительно направился к Владу, который стоял особенно близко к Герману. Тот не успел пикнуть, как получил удар в живот, от которого сразу рухнул на пол. Его лицо стало белее лепестка магнолии, а глаза расширились от боли. Парень постарался вдохнуть, но воздух не пошёл в лёгкие, а желудок скрутило острым спазмом. Герман едва не закричал, когда Влада стошнило прямо на одежду. Кирилл не дал своему противнику возможности оправиться, взял его за волосы, поднял и посмотрел ему прямо в лицо: — Ещё раз ударю — калекой останешься. В словах Лаврентьева не было ни тени шутки, и Влад сжался от пронзающего до костей страха. — Кирилл, не надо! — крикнул Герман. Андрей застыл в немом шоке, но попятился назад, когда Кирилл повернулся к нему. — Пожалуйста, не делай этого! — снова взмолился Герман, но его спаситель уже схватил Андрея за грудки и прижал к стене, чтобы нанести удар в челюсть. — Хватит! Остановись! Что ты творишь, ты же их убьёшь! Я не переживу, если тебя в тюрьму упекут! — Уходите, — бросил Кирилл, поочередно посмотрев на обоих актёров. — И впредь не смейте приближаться к Герману, иначе пожалеете, что на свет родились. Андрей опомнился первым и помог подняться Владу, стараясь не встречаться глазами с Кириллом. Вскоре они ушли, оставив после себя лишь запахи крови, рвоты и страха. Герман забился в угол. Когда Кирилл двинулся к нему, чтобы обнять и успокоить, он выставил ладони вперёд и попросил: — Не подходи! Пожалуйста, стой на месте! Это было слишком… Кирилл остановился, поняв, что его жестокость отпечаталась не только на телах тех двоих, но и на душе Гермуси. — Прости меня. Я просто… Я не мог иначе. Взгляд Квятковского был полон внутреннего конфликта. Он хотел оказаться рядом со своим избранником, но страх сковал его тело посильнее любых цепей. — Ты знаешь, что я тебя очень люблю. Но я не могу видеть тебя таким. — Я перегнул палку, — согласился Кирилл. Он не знал, как исправить содеянное. Он просто стоял перед Германом, потерянный и беспомощный, как большой ребёнок. — Я не хотел этого. Сам не знаю, какой бес в меня вселился! Я не в силах видеть, как кто-то поднимает на тебя руку. — Не делай так больше, пожалуйста. — Я обещаю, что ты больше никогда не увидишь меня таким. Ты же знаешь, это — не я. Я — заботливый, ласковый и понимающий. Герман собрал волю в кулак, поднялся и сделал шаг вперёд. — Мы все ошибаемся, — проговорил молодой актёр. — Ты действительно заботливый, любящий и верный. Но самое главное — ты мой. Наконец он оказался рядом со своим супругом и обнял его. — Прости меня ещё раз, — голос Кирилла дрожал, как струна, тронутая мягким прикосновением. — Я готов защищать тебя любой ценой. — И я благодарен тебе за это, — Герман прижался к крепкому телу. Внутри него всё ещё бушевали остатки тревоги, но она постепенно растворялась в этих объятиях, как ночь в первых лучах рассвета. — Но не позволяй ярости затмить твою прекрасную душу. — Гермуся, я пришёл на минуту, чтобы подарить тебе сладости и цветы. Они на столике. Я положил их туда, чтобы освободить руки. Хотел порадовать тебя перед репетицией. Но сейчас мне нужно уехать по делу, связанному с поддержкой одного культурного проекта. А именно, с открытием новой художественной галереи, посвящённой современным художникам, чьи работы пока не получили должного признания. Если у меня всё получится, там появятся и твои картины. Тревога Германа снова поднялась наружу. Он знал, что после того, как Кирилл уйдёт, он останется один на один со своими демонами. — Кирилл, не уходи, — вырвалось у него. — Пожалуйста, останься! Я боюсь… Этот страх, это волнение из-за всего произошедшего. Я могу сделать что-нибудь нехорошее. — Бриллиант души моей, я бы остался, если бы мог. Но сегодня обстоятельства работают не на нас, а против нас. Что нехорошего ты можешь сделать? Ты боишься, что эти уроды вернутся? Да они теперь к тебе и на пушечный выстрел не приблизятся! Квятковский вцепился в плечо своего избранника, не желая отпускать его ни на секунду. — Я боюсь остаться один, боюсь пустоты, которая заполняет всё вокруг, когда тебя нет. Кирилл закрыл глаза, пытаясь справиться с собственным внутренним конфликтом. Он знал, что должен идти, но в то же время не мог игнорировать мольбу Германа. Любовь и долг столкнулись в его сердце, разрывая его на части. — Сколько длится репетиция, Гермуся? — Два часа. — Хорошо, через два часа я буду здесь, и мы вместе пойдём домой. А пока думай о том, что я с тобой даже на расстоянии, что наши сердца связаны невидимой нитью, и эта нить крепче всего на свете. — Ладно, — обессиленно кивнул Герман. — Я постараюсь. Кирилл повернулся и вышел из гримёрной. Квятковский посмотрел ему вслед, ощущая, как мир трещит по швам. Оставленный на столике букет синих цветов показался актёру символом его собственных чувств — таких же нежных и ранимых. — «Два часа, всего два часа», — закрутилось в его голове. Герман сел на пол, обхватив колени руками. Осознание того, что ему придётся убираться в гримёрной, утирать лужи рвоты и крови, оказалось невыносимым. Наверное, всего случившегося можно было бы избежать, если бы он сам являлся нормальным человеком. А он — какой-то бракованный. Не смог найти друзей, не смог вжиться в новую роль… Ничего не смог! Взбрыкнул на Кирилла, когда тот переусердствовал с защитой! А кто он без него? Ноль без палочки! Абсолютно не состоявшийся в жизни олух с призрачными надеждами на несуществующую силу. Герман поднялся, подошёл к зеркалу и плюнул прямо в отражающую поверхность. Ему стало очень больно, будто что-то внутри оборвалось. Слёзы катились по щекам, смешиваясь с каплями пота, и вся его воля рассыпалась на миллионы осколков. Квятковский бросился к бутылке водки, которую сюда принёс Влад. Удивительно, но во время бойни она не разбилась — словно знак свыше. Он схватил её, сорвал крышку и сделал первый глоток. Холодная жидкость обожгла его горло, но зато принесла долгожданное облегчение. Герман пил снова и снова, забыв обо всём, кроме этих минут. В голове у актёра начало мутиться. Он закрыл глаза и позволил тьме поглотить его, напоследок прошептав: «Прости меня, Кирилл». Теперь он чувствовал себя одновременно потерянным и спасённым от самого себя. *** На сцене царила полумгла, лёгкий туман стелился по паркету, создавая ощущение таинственности. Репетиция была в самом разгаре, но в труппе витало напряжение. Все знали, что этот момент станет ключевым — как для спектакля, так и для Германа, которому предстояло исполнить роль, отличавшуюся от всего, что он играл ранее. Актёры, драматург и несколько декораторов стояли вокруг сцены, наблюдая за происходящим с едва сдерживаемым ожиданием. Герман направился в центр сцены. Он уже был в костюме, его лицо слегка блестело от пота, а глаза, несмотря на явное опьянение, сохраняли ту загадочную глубину, которая всегда притягивала зрителей. Каждое его движение было немного неустойчивым, но именно это придавало его персонажу правдивость и непредсказуемость. — Ну что, готовы увидеть настоящий театр? — в пустоту спросил актёр. Вошёл «трактирщик», его массивная фигура заслонила собой остатки света, и он начал эпизод грубым и глухим голосом, точно говорил в трубу: — Что же ты, сын, такой плохой? Девять утра, а ты уже наклюкался до чёртиков! Давай-ка я тебе чаю налью. Герман почувствовал, что ему срочно нужно сесть. В сюжет это пока не входило, но стоять на своих двоих он более не мог. — Какой ты сегодня ворчливый, отец, — Квятковский попытался подвинуть к себе стул и едва не упал на колени. Импровизация получилась крайне своеобразной, но настолько естественной, что никто не сказал ни слова против. — Садись, выпей со мной. У нас тут водка на любой вкус… Вот, классическая, зерновая, ароматизированная. С лимоном, малиной, ванилью, — на последнем слове он почувствовал подкативший к горлу тошнотворный комок и, опасаясь, что заблюёт пиджак — часть сценического костюма, просто скинул его, разорвав пуговицы. — Я тебе, отец, сейчас скажу одну херню… — Ну? — поторопил мужчина напротив. Он улыбался, и это была улыбка самого актёра, а не его персонажа. Уж слишком забавно прозвучало слово «херня», и то, как Герман выделил букву «р» в середине. — Я тебе скажу одну херню, а ты ответишь: «Ой, сынок, давай вторую!» В зале послышались смешки.Репетиция превратилась в нечто иное — в спонтанное, но потрясающее шоу. Герман плохо понимал, где кончалась реальность и начиналась его роль. Это было как прыжок с обрыва, где ты не знаешь, что тебя ждёт внизу — вода или камни. — Так вот, отец, — продолжил Герман и провёл ладонью по лицу, размазав грим, — водка — она, знаешь ли, как любовь: сначала бьёт в голову, потом падает в ноги, а в конце заставляет тебя валяться лицом в грязи! А ещё важно к водке иметь огурчик! Хрустящий! Ибо если огурчик мягкий, то и жизнь мягкая, понимаешь? Мягкая и кислая, как вчерашний рассол! — актёр снова принялся растирать руками лицо, словно был в горячке. — Жизнь — она как пьеса. Бывает, пьёшь — и всё кажется шуткой. Апотом бах — и занавес опускается, а ты ещё не допил свой последний бокал. Но ничего, — он поднял указательный палец, наращивая интригу, — на сцене жизнь никогда не кончается! Здесь даже самое поганое похмелье — всего лишь эпизод. «Трактирщик» только открывал и закрывал рот, как рыба на суше. По сюжету он давным-давно должен был прервать монолог «сына» своей репликой, но он забыл, как разговаривать. — Я ещё хотел поведать тебе великую истину, — Герман наклонился вперёд, готовясь к откровению. — Но забыл её к чёртовой матери! Смех в зале нарастал. — Герман либо гениальный актёр — возможно, даже мирового уровня, — заметил драматург, — либо просто пьяный вдрызг. — Одно другому не мешает, — ответил ему декоратор сцены. — Я в пьяном виде могу только частушки петь и стаканы разбивать, а он вон что творит! — По-моему, он сидит только потому, что не в состоянии стоять. «Трактирщик» тем временем вспомнил свою реплику, но тут Герман вскинул руки и встал. — И ещё одно, отец, — его голос звучал тише, но зал будто прижался ближе, дабы не упустить ни слова. — В жизни ведь как? Либо ты пьёшь с друзьями, либо с демонами. А я до сих пор не понял, кто мои собутыльники. Может, ты знаешь? — Ты молодец, сынок, — наконец промолвил старший актёр, пытаясь вернуть их обоих в текст. — Только запомни, всегда думай о завтрашнем дне. Потому что… — Завтрашний день? Завтра, отец, нас всех уже может не быть.Так что, пей сегодня. И Герман опустился обратно на стул, как царь на свой трон, с чувством, что победил врага, которого не видел никто, кроме него. После репетиции актёры начали расходиться по закоулкам сцены, но разговоры затихли не сразу. Те ребята, кто ещё недавно посмеивались над Германом, теперь украдкой бросали друг на друга взгляды, в которых читалось осознание — тот был не просто талантливым актёром, а тем, кто мог одним взмахом снести все их представления о театре и о себе. — Значит так, — сказала Кларисса, остановившись в углу сцены. — Нам нужно подружиться с Квятковским. — Зачем? — уточнил Павел — полноватый, низкорослый, но довольно обаятельный мужчина с рыжеватыми волосами и светло-зелёными глазами. — А ты сам не догадываешься? Это не сколько про дружбу, сколько про связи. Он здесь надолго не задержится, его вскоре заметят руководители более крупных театров. — Ты хочешь, чтобы он нас запомнил и в дальнейшем помог? — Кларисса права, — поддержал свою коллегу Костя. Он, как и многие, недолюбливал Германа, но сейчас был готов пойти на сделку с принципами и совестью. — Нельзя упустить такой шанс. — Да, он сможет дать всем нам билеты в новую жизнь, — красиво подбоченилась Кларисса. — Если мы сейчас не наладим с ним отношения, потом будет поздно. В конце концов, театр — это не только искусство, но и политика, а в политике важно уметь находить общий язык с разными людьми. — Я вообще не понимаю, за что вы его притесняли, — вмешался в разговор бойкий парень Игорь. — Да, у него богатый любовник, но он этим не кичится, держится в стороне и никому не мешает. Просто живёт своей жизнью и работает, как все мы. — Нет, ребят, вы как хотите, но я с ним никоим образом взаимодействовать не стану, — открестился ещё один член труппы. — Вы знаете, что произошло с Владом и Андреем? Сам Герман, может, и безобидный, но его покровитель… Боже упаси! Я слишком дорожу своей жизнью! — Кирилл трогает только тех, кто открыто обижает Германа, — не испугалась Кларисса. — А мы ничего такого делать не собираемся. Мы, наоборот, будем дружелюбны, — она сделала паузу, добавив весомости своим словам. — Поймите, мы живём в мире, где всё переплетается — и работа, и личные отношения, и подобные Кириллу «покровители». — А с чего начать-то? — почесал в затылке Костя. — Может, пригласить его куда-нибудь? Например, на выставку картин? Он вроде увлекается живописью. Хотя бред какой-то! Там не получится ни посмеяться, ни поговорить. Лучше в трактир! — Поддерживаю, — улыбнулся Игорь. — Давайте расслабимся! Герман, не подозревая о планах коллег, направлялся в свою гримёрную. Ему нужно было придумать оправдание своего состояния для Кирилла, который должен был появиться с минуты на минуту. И тут король вечера столкнулся с Владом. — Влад, — осторожно начал Герман. — Как ты себя чувствуешь? Получше? Пожалуйста, прости, что… — Держись от меня подальше! — выкрикнул Влад и отступил к стене. — Ты и твой… Кирилл! Как ты можешь с ним жить?! Он же чудовище! Не подходи! Я не хочу, чтобы меня из-за тебя отправили на тот свет! Герман точно врос в пол. Он понимал, что извинения не смоют крови и боли, но его мучило чувство вины, и он не мог уйти, не попытавшись что-то сделать. — Я не хотел, чтобы это произошло. Кирилл перегнул палку… Он пытался меня защитить, но… Если бы я мог что-то исправить, я бы… — Ты можешь одно — не приближаться ко мне и не разговаривать со мной. Я не желаю иметь с тобой ничего общего, понял? Ты для всех нас как проклятие! Как магнит для интриг, кровопролитий и коллизий! Вокруг тебя постоянно происходит что-то нехорошее! Разве ты сам не замечаешь, что из-за тебя весь театр трещит по швам? Наша некогда дружная актёрская компания превратилась в змеиную яму, где все готовы друг друга сожрать! Слова Влада пронзили Германа посильнее игл. Он вспомнил, как когда-то так же стоял перед Ольгой, пока та кричала: «Глупое, несуразное, невоспитанное создание! Источник проблем! Уйди от нас, сделай милость!», а ещё раньше — перед отцом, пока тот распинался: «Герман, ты — моё наказание. Твоя жизнь — сплошная чреда ошибок, и мне надоело за это расплачиваться». — Влад, но я не хотел ничего плохого. Всё, чего я хотел и к чему стремился, — это играть на сцене, быть частью чего-то большого и доставлять радость зрителям. Я не знал, что всё так обернётся. — Зато теперь знаешь! И клянусь, если ты ещё раз посмотришь в мою сторону, я обращаюсь в полицию! Но Герман всё-таки поглядел вслед удаляющемуся Владу, чувствуя, как земля под его ногами уходит в пустоту. Всё, что ещё недавно казалось ему смыслом жизни, превратилось в руины, среди которых снова не осталось надежды на искупление. *** Герман сидел в гримёрной и ждал Кирилла. Стук в дверь буквально вернул его к жизни, но потом он вспомнил, что Кирилл обычно не стучался — значит, это был кто-то другой. — Войдите, — прикрикнул Герман и схватил себя за горло, изо всех сил борясь с тошнотой. И тут в небольшую, но уютную комнату набились другие актёры. — Герман, ты был неподражаем! — с порога заявил Константин. Квятковский почувствовал себя загнанным в угол зверем. Доставшееся от суеверных предков шестое чувство издало тревожный вопль — ничего хорошего за этим внезапным приступом фальшивого дружелюбия таиться не могло. — Да, ты просто огонь, — подхватил Игорь. — Мы так смеялись за кулисами, что чуть животы не надорвали! — А твоя шутка про водку и огурцы! — добавила Кларисса с улыбкой, которая показалась Герману слишком широкой. — Ты сам её придумал? Вот что значит творческий подход к работе! — Это под силу только тебе! — вставил свои пять копеек Павел. — Спасибо, — ответил растерянный Герман. — Я рад, что вам понравилось. Это был экспромт… Или как это правильно называется? — Экспромт или нет, а вышло восхитительно! — не успокаивался Игорь. — Слушай, а не отметить ли нам это событие? Пойдём в трактир, выпьем, отдохнём? Герман свёл брови к переносице. Он прекрасно помнил, чем для него оборачивались предложения Вити «куда-нибудь сходить и чего-нибудь выпить», и пребывал в уверенности, что и с этими ребятами его будет ожидать что-то подобное. — Я не планировал куда-то идти… — начал он. — Брось! Будет весело! Хватит тебе тут сидеть одному! — Да какой трактир, ребята? Я и так водки напился. Актёры замерли от такой прямолинейности, но через секунду дружно расхохотались. — Мы не будем заставлять тебя пить. Просто посидишь с нами, поддержишь разговор, поделишься своими планами на будущее. Разве плохо? Это отличная возможность укрепить наши отношения, — золотохвостым соловьём заливался Костя. — Нет, я не могу. За мной скоро Кирилл зайдёт. — Кирилл? А он не говорил, что может задержаться? — в голосе Игоря прозвучал нехороший намёк, не скрывшийся от внимания Германа. — Если он до сих пор не появился, то, наверное, он занят чем-то поважнее, — вздохнула Кларисса. — Он слишком сильно тебя контролирует и не даёт возможности сблизиться с нами, — поддержал подругу Костя. — Мы ведь коллеги, между нами столько общего, а он держит тебя на расстоянии от нас. Да и не только от нас, но и от всех остальных людей. Герман, друзья нужны любому нормальному человеку. Нельзя жить под бумажным колпаком. — Да, Герман, умный парень никогда не откажется от возможности завести приятелей. Ибо это — защита и запасной вариант, к которому можно обратиться за помощью, если с партнёром вдруг не сложится. — У меня был хороший друг, — глухо поведал Герман, — но его загубили. Я его помню и уважаю. А с другими у меня не складывается. — Это ужасно, мы тебе сочувствуем. Но это не значит, что нужно замыкаться в себе и отвергать всех остальных. Почему ты не даёшь нам шанса проявить себя? Давай вместе подождём Кирилла? Может, он объяснит, почему задержался? Актёры расселись на диване, будто это было самое естественное дело на свете, и Герман оказался в ловушке. Наконец он сдался: — Хорошо, пойдёмте! Я не в силах выносить это тягостное ожидание! Но ненадолго! — Вот, сразу бы так! Трактир, в который они направились, располагался недалеко от театра, и был известен своей шумной атмосферой, грубыми дубовыми столами и крепкими напитками. Внутри витали запахи табачного дыма и дешёвого спирта, от чего Герман сразу начал кашлять. — Простите, я не смогу находиться здесь долго, — сказал он, прикрыв рот рукавом рубашки. — У меня проблемы с лёгкими. Можем что-нибудь выпить, и я сразу уйду. Актёры, казалось, не заметили его состояния, уселись за один из столов и стали разговаривать. Герман опустился на край скамьи, стараясь дышать через нос. — Принесите мне что-нибудь безалкогольное, — обратился он к подошедшему официанту. — Чай или морс? — уточнил тот. — Морс, пожалуйста. Остальные уже смеялись, заказывая водку, настойки и закуски. Ощущение изоляции для Германа усилилось, когда он заметил, как Костя переглянулся с Игорем, покачав головой, будто сказав: «Нет, этот парень ни на что не годится». — Герман не пьёт, но ничего страшного, — попыталась разрядить обстановку Кларисса. — Давайте мы за него выпьем! За нашего гения сцены! — Да куда мне пить-то, — пролепетал Герман, неловко потирая запястье. — Я и так… Хоть бы с лавки не упасть! В этот момент дверь трактира распахнулась, и в зал ворвалась группа мужчин, явно уже хорошо подогретых алкоголем. Они переговаривались между собой, не обращая внимания на окружающих, но один из них, самый высокий и крепкий, ощерился, увидев компанию актёров: — Эй, поглядите-ка, что за павлины тут сидят? Наверное, из театра? Вы, молодые люди, нам тут нужны как рыбе зонтик. Костя, обычно не теряющийся в подобных ситуациях, натянуто улыбнулся: — Мы просто отдыхаем и не хотим никого тревожить. Может, вы продолжите своё веселье, а мы своё? Но мужчина не собирался отступать. Его взгляд уже был прикован к Герману, чьё худощавое лицо и опустившиеся плечи выдавали внутреннее беспокойство. — А этот чего такой грустный? Не хочешь выпить с нами, парень? Или считаешь нас недостойными? — Нет, я не могу, — ответил Квятковский, стараясь не обращать внимания на усилившуюся боль в груди. — У меня не самое лучшее расположение духа, простите. — Что значит «не лучшее расположение духа»? — мужчина бросил взгляд на своих товарищей, приглашая их посмеяться. Те послушно загоготали. — Это ты меня сейчас обидеть попытался? — Нет, что вы! Просто у меня проблемы со здоровьем… — Ах, проблемы, — мужчина склонился ближе, его дыхание пахло водкой. — А может, ты просто думаешь, что ты лучше нас? Смотрите-ка, друзья, ребятки из театра нас за людей не держат! — Давайте не будем устраивать сцен, — попросил Костя, попытавшись выставить руку вперёд и создать преграду между Германом и агрессором. — Мы не желаем ссориться. — А кто говорит про ссоры? Я просто пытаюсь поговорить с вашим другом. Вот только что-то он не очень-то разговорчив. Может, его необходимо взбодрить? — «Прекрасный день, — подумал Герман, поняв, что конфликта не избежать. — Мне нужно было догадаться, что он закончится чем-то подобным!» Но грубиян вдруг толкнул его в плечо. Стул пошатнулся, но сам Герман сумел удержать равновесие. — Эй, ты что творишь?! — вскочил Костя, и тут всё и началось. Один из друзей зачинщика конфликта ни с того ни с сего прыгнул на Игоря, и потасовка разгорелась молниеносно. Трактир заполнился криками и звуками падающих стульев. Герман почувствовал, как его схватили за руку и попытались ударить в лицо, но он инстинктивно отстранился, пропустив удар мимо. Но это лишь временно спасло его, так как через мгновение он оказался в самом центре драки. Всё смешалось: грязные ругательства, звон разбивающихся кружек, крепкие кулаки… Но тут в зал ввалились жандармы. Все, кто были в состоянии двигаться, замерли. Шум сменился тишиной, прерываемой лишь тяжёлым дыханием тех, кто совсем недавно рвали и метали. — Что тут происходит? — громко спросил самый старший из служителей закона. Его взгляд был тяжёлым и уставшим от подобных сцен. — Потасовка, господин жандарм, — объяснил трактирщик, вытерев руки о грязный фартук. — Всех в участок! Разберёмся на месте! Герман, как и остальные, был скручен и выведен на улицу. Жар, пот и запахи питейного заведения остались позади, сменившись холодным воздухом ночного города. Никто пока не осмеливался заговорить первым, но витавшее вокруг напряжение было готово в любой момент вылиться в слова. — Что ты за человек, Герман? — наконец нарушил молчание Костя. — Каждый раз, когда мы пытаемся вытащить тебя из скорлупы, это заканчивается какой-то ерундой! — Вот-вот, — поддакнул Игорь. — Герман, ты как ходячая беда! Мы без тебя почти каждые выходные приходили в этот трактир, и ничего подобного не случалось! — Даже если и происходили потасовки, они нас не затрагивали, — проговорил Павел. — Почему эти грубияны обратили внимание именно на тебя? — Герман, ты уже давно не ребёнок, а защищаться так и не научился, — раздраженно добавила Кларисса. — Где твой язык и характер? Планируешь до седых волос прятаться за спину Кирилла? Даже Костя за тебя заступился, а ты только сопли жевал! Этот вечер дал актёрам понять, что с Германом не стоит сближаться. Он обречён на одиночество, и любой, кто попытается вытащить его из бездны, будет неизбежно втянут туда вместе с ним. *** Камера, в которую поместили актёров, представляла собой крохотное помещение с толстыми стенами и железными решётками на окнах. Внутри не было ничего, кроме скамеек вдоль стен. Пол был деревянным, без ковра или настила, а освещение — минимальным: одна керосиновая лампа, стоявшая за пределами камеры. Холод, сырость и отсутствие удобств давно являлись нормой для этого места. Несостоявшиеся друзья Германа галдели, как сороки, подшучивали друг над другом и даже пробовали спорить с жандармами — произошедшее быстро потеряло для них трагическую окраску и они уже не видели смысла переживать. Самое главное — они не совершили ничего по-настоящему ужасного и противозаконного, а остальное решится со временем. Нужно было всего-навсего переждать одну ночь. А сам Герман молча сел на скамейку и уставился в пол. Он задыхался и дрожал, а ссадины на его ладонях и коленях напоминали о себе жгучей болью. Весь сегодняшний день казался ему ночным кошмаром. — Господин жандарм, — позвал Квятковский, — прошу прощения, но у меня серьёзные проблемы с лёгкими. Это — не просто неприятность, а угроза для жизни. Не могли бы вы перевести меня в камеру, где не так холодно и сыро? Единственный оставшийся в участке жандарм лишь смерил его безразличным взглядом. Это был крепкий, но очень уставший человек, которому явно не хотелось вести переговоры с очередным нарушителем общественного правопорядка, да ещё и на ночь глядя. — Проблемы с лёгкими, говоришь? Бедняжка, тебе, видимо, захотелось в мягкую постельку? Может, ещё и чайку горячего? Герман с трудом унял новый приступ кашля. — Я не прошу особого обращения. Но если я останусь в таких условиях, то могу не дожить до утра. — Думаешь, ты первый, кто пытается меня разжалобить? Что же ты, такой больной, в трактир пошёл? Пить, значит, у тебя здоровья хватало, а как в камеру попал, так всё, умирающий лебедь? На Германа нахлынуло новое чувство — отчаяние. Он понял, что все его дальнейшие просьбы будут лишь новыми поводами для издёвок. С трудом передвигая ноги, актёр вернулся на скамейку и обнял себя обеими руками, чтобы хоть как-то унять мучительную дрожь. — Хотя бы чайную ложку керосина дайте, — взмолился бедолага. — Вот не взяли бы Германа с собой и не сидели бы здесь, — проворчал Костя. — Квятковский, на тебе точно чёрная метка, — поддакнул Игорь. — Да что я сделал-то?! — всхлипнул Герман. — Хватит вам, — вмешалась Кларисса. — Герман ведь не хотел ничего дурного! — Да он никогда дурного не хочет! — буркнул кто-то из темноты. — Но всегда это притягивает! — Пожалуйста… — пискнул Герман, собрав в кулак остатки храбрости. — Мне нужно связаться с одним человеком. Позвольте мне передать сообщение… — Герман, ты серьёзно?! — спросил Костя, у которого от столь вопиющей наглости сокамерника и коллеги глаза на лоб полезли. — Хочешь, чтобы тебя забрали, а мы тут куковали всю ночь?! И не стыдно?! Нет, так дело не пойдёт. Если мы вместе попали в неприятности, значит, и выбираться из них будем вместе. За решёткой все равны. Посидишь, подумаешь обо всём произошедшем, а заодно поймёшь, что не все вокруг считают тебя пупом земли. — И что не всё в мире должно быть по-твоему! — поддакнул Игорь. Тем временем Кирилл вышел из здания галереи. Он был доволен успешно завершённой встречей, но недоволен тем, что не уложился в обещанные Герману два часа. Пока он ждал ямщика, его волнение нарастало. А когда он оказался у театра, то почему-то почувствовал себя воином, готовым сию секунду ринуться в бой. Старое, но красивое здание выглядело как замок, ожидающий своего короля. Длинный плащ Кирилла развевался за его широкими плечами, создавая впечатление, что за ним тянулось тёмное крыло. Смешанный с прохладным воздухом дорогой парфюм оставлял за ним едва уловимый шлейф — ноты ветивера и сандала, усиленные аккордами чёрного перца и пряной корицы. Этот аромат был как продолжение самого Кирилла, символ его власти и тайны. Двери театра распахнулись перед ним, точно ворота в другой мир. Каждое движение позднего визитёра было пронизано благородством, как у героя классической трагедии, шагнувшего из другой эпохи в эту, наполненную своими заботами и страданиями. В полюбившейся Кириллу гримёрной Германа не оказалось. Цветы стояли в вазе, сладости были нетронутыми. — Что-то случилось, — догадался Лаврентьев. — Пойду, расспрошу тех, кто здесь остался, — но не успел он сделать и нескольких шагов по направлению к залу, как увидел одного из гримёров. — Извините, молодой человек, вы случайно не знаете, где Герман Квятковский? — голос Кирилла был тихим, но твёрдым. — Несколько наших актёров сегодня попали в неприятности, — ответил парень, стараясь не смотреть на своего собеседника в упор: он сильно робел перед этим королём жизни. — Пошли в трактир, затеяли драку, и… В общем, жандармы забрали всех в участок. Возможно, среди них был и Герман. Я узнал об этом от своего знакомого, который видел начало потасовки, но успел убежать до прибытия служителей закона. — В какой именно участок? — Этого не знаю. — Ладно, сам выясню. Спасибо. И прежде чем скрыться восвояси, Кирилл услышал, как гримёр буркнул: «Вот мается, бедный! Опять побежал этого болезного из неприятностей вытаскивать!» Через пару часов Кирилл вбежал в здание нужного участка. Охранник и дежуривший жандарм были ошеломлены его появлением. Шаги незваного посетителя звучали как громовые раскаты, а его сила ощущалась как натянутая тетива, готовая в любой момент выпустить стрелу. — Это ещё кто? — поёжился охранник. — Ну и ну! Будто сам бог сошёл с небес, чтобы вернуть порядок в наш бренный мир! Кирилл остановился перед служителем закона и, не тратя времени на вежливости, отсёк: — Где Герман Квятковский? Жандарм замешкался. Казалось, один взгляд гостя мог заставить стены задрожать, а людей — в ужасе упасть на колени. — Я не собираюсь повторять вопрос, — Кирилл схватился за край массивного стола и с лёгкостью отодвинул его в сторону. Стол с грохотом врезался в стену, бумаги, карандаши, чернильницы и печати разлетелись, как испуганные воробьи. — Или вы немедленно приведёте его сюда, или я разнесу это место к чёртовой матери! — Вы что, ненормальный?! — попытался возразить дежурный, но спустя секунду метнулся к камере. Когда Кирилл увидел Германа — бледного, измождённого, кашляющего, с тенью страха в глазах, — ярость в его душе закипела с новой силой. — Кто посмел запереть его здесь? — прорычал Лаврентьев. — Я просто выполнял свои обязанности, — ответил жандарм. Слова застревали у него в горле, словно затупленные лезвия. — Герман был задержан после драки в трактире, это стандартная процедура… — Стандартная процедура?! Да вы хоть понимаете, что натворили?! У него проблемы с лёгкими, ему нельзя находиться в таких условиях! Клянусь, если его здоровье ухудшится, вы за это ответите. Герман, мы уходим. — Вы не можете просто уйти с ним! Это против правил! — Если вы считаете, что ваши правила сильнее моей воли, то попробуйте меня остановить, — с этими словами Кирилл взвалил Германа на своё плечо. — Но отнять его у меня вы сможете только вместе с моими руками. — Кирилл, я сам могу идти, — сказал Герман, понимая, что что-то шло не так, как обычно. Раньше его нежно подхватывали и укутывали, как драгоценный фарфор, а тут — раз, и отгрузили, как товар на складе. — Ты на меня злишься? Прости, я… — Герман, не надо передо мной извиняться, не надо со мной ласкаться. Если бы ты лучше себя вёл, я бы не злился. Сколько раз тебе повторять… — Ой, мамочки! — Всё, домой. Германа слегка качало, и он инстинктивно ухватился за спину Кирилла, одновременно с этим поняв, что противиться бесполезно. Какой там, когда твой возлюбленный превратился в гигантского буревестника! — Кирилл, а… — Не сейчас. Мы всё обсудим, когда я успокоюсь. — Я просто хотел сказать, что хочу блинов со сметаной. — Блины со сметаной? В такой час? Хорошо, будь по-твоему. Кирилл изменил маршрут и начал двигаться в сторону круглосуточного кафе. Герман в это время рассматривал ночной город под необычным углом — дома тянулись вверх, а луна казалась чересчур близкой. В какой-то момент он даже задумался, а не стоило бы сейчас повести себя как-то особенно театрально, например, заявить, что ему нужно полюбоваться звездами, но в последний момент решил не рисковать. Вместо этого он начал гладить случайных прохожих по макушкам и плечам. Те в недоумении останавливались, но вид сурового Кирилла не позволял им долго раздумывать, поэтому они быстро уходили прочь. Когда мужчины добрались до кафе, Кирилл, не говоря ни слова, посадил Германа за столик у окна и направился к стойке, чтобы сделать заказ. Герман поначалу просто смотрел в окно, но потом разложил перед собой затерявшиеся в карманах театральные программы и погрузился в их изучение. Кирилл быстро вернулся с большой стопкой блинов, сметаной и двумя чашками чая, и его спутник тут же занялся распределением блинов по столу, как карт в пасьянсе. — Это тебе, — сказал Герман, подвинув несколько блинов к Кириллу. — А вот это мне, — и разложил остальные блины вокруг своей тарелки. Кирилл кивнул в знак благодарности и развернул неизвестно откуда взявшуюся газету. Квятковский в недоумении вздёрнул брови. Он ожидал чего угодно — бурной тирады о своей безалаберности, мрачных угроз о том, как скоро Кирилл переедет к тибетским монахам в поисках душевного покоя, или хотя бы священного молчания с подтекстом «ты меня утомил». Но Кирилл просто читал новостную сводку. Даже не двигался! Точь-в-точь древний оракул! — Кирилл? — позвал Герман. — Мм? — Я снова всё испортил, да? Ну, я имею в виду трактир и драку. Я не хотел туда идти, правда! Кирилл с явной неохотой оторвался от газеты и принялся за блины. Ел он их так, как будто находился на званом ужине в высшем обществе. Каждое движение его вилки и ножа было продумано, как у опытного фехтовальщика: блин был аккуратно захвачен вилкой, нож безупречно прошёл по краю, и ни одна капля сметаны не покинула тарелку. Герману же не хватало терпения и навыков, чтобы следовать примеру своего спутника. Он взял блин в руки и принялся сворачивать его в некое подобие рулета. Капли сметаны падали прямо на его рубашку, а вскоре один особенно коварный блин решил взбунтоваться и ускользнуть с тарелки, плюхнувшись на его штаны. Кирилл только вздохнул и протянул своему избраннику салфетку. — Всё, я сдаюсь! — вырвалось у Германа. — Ты победил, я уже не знаю, как искупить свою вину, но скажи хоть что-нибудь! — Гермуся, — заговорил Лаврентьев, понизив голос до того самого тона, в котором звучали любовь, терпение и нотка смеха. — Я понял, что в случае с тобой подобные моменты нужно просто переживать и смиряться. Блины у нас есть, сметана — тоже. Чай горячий, и мы оба живы и почти здоровы. А всё остальное давай оставим на потом? Герман кивнул, почувствовав, как что-то тяжёлое отпускает его сердце. — А блины очень вкусные, — улыбнулся он. — Правда, толстоваты. — Так ты по два не бери. — Как?! По два?! А я-то думал… Герман посмотрел на Кирилла, а потом на остатки их трапезы, и вдруг разразился таким сильным смехом, что стал задыхаться. — Боже мой, Герман! — обеспокоился Кирилл. — Только не сойди с ума! Герман попытался что-то сказать, но каждый раз, как только он открывал рот, его охватывал новый приступ хохота. В конце концов, он прижался к спинке стула, схватился за бока и позволил себе насладиться этим моментом до конца, не думая ни о чём другом. — Всё, хватит, — кое-как прохрипел он и помахал на своё раскрасневшееся лицо ладонями. — Кирюша, ты просто чудо! И ему показалось, что непринятие актёрской компании, инцидент в трактире, камера, да и всё, что сейчас вершилось за пределами кафе, было лишь неприятным сном. *** На следующее утро Герман проснулся, уткнувшись носом в подушку с лёгким запахом лаванды. Кирилл уже был на ногах и, судя по доносящимся из коридора звукам, вбивал гвоздь в стену, чтобы повесить картину. — «Он вообще спал?» — подумал Квятковский, вспомнив всю минувшую ночь. Кирилл не отходил от него ни на шаг, несколько раз менял компрессы на его лбу, гладил его по волосам и отпаивал тёплым молоком. — «Какой он замечательный! И какое я ничтожество!» Герман потянулся и заметил, что рядом с ним под одеялом, обняв фарфоровую куклу, уютно свернулась Кира. Молодой отец поцеловал её в макушку, оделся и неслышно вышел из спальни. Когда он появился в коридоре, Кирилл бросил на него укоризненный взгляд: — Проснулось ясно солнышко! Опять всю ночь спал поперёк кровати, захватив все подушки! — Ну извини, — мягко улыбнулся Герман и, подойдя ближе, опустил руки на плечи своего возлюбленного. — Герман, да что мне твои извинения? В который раз ты оставляешь меня один на один с утренней суетой! Ты помнишь, что обещал Кире поиграть с ней в куклы? Мне пришлось делать это за тебя. Я едва не вывихнул пальцы, когда заплетал косичку её Аделине… или Жозефине. Не запомнил! — Что ты ворчишь, точно старый дедушка? — Я бы не ворчал, если бы ты по-другому себя вел! Вот ты кота тискаешь, скоро в пятую точку его поцелуешь: «Витязь, Витязь, люблю Витязя!» А почему ты ему воду не наливаешь? Он ходит, умирает от жажды! — Ну Кирюш! Обещаю, я налью воду Витязю… — Да я уже сам налил. — И займусь всеми кукольными делами. Правда, я тоже могу случайно сделать Аделине очень чудаковатую причёску. А ты отдохнёшь и почитаешь нам с Кирой сказку. Только смотри, не выбери ту, где злые духи приходят ночью за нерадивыми отцами. — Не переживай, я выберу что-нибудь поспокойнее, — сквозь напряженные черты лица Кирилла наконец-то проступила улыбка. — Но это не значит, что я забуду про подушки! В следующий раз я заведу наш будильник, привезенный из Западной Европы, чтобы в нужный момент напомнить тебе, что кровать предназначена для сна, а не для занятий новомодной йогой! — Ладно, мой суровый повелитель порядка и дисциплины, — Герман отпустил плечи возлюбленного и шутливо присел в реверансе. Кирилл только махнул рукой в ответ, явно не желая продолжать тему. Герман хотел направиться в столовую, но понял, что ещё не успел проголодаться, и пошёл обратно в спальню, к Кире. Та, как оказалось, уже проснулась и сидела на полу, пытаясь заплести косу своей кукле. — Папа! — воскликнула она, завидев Германа. — Ты поможешь мне выбрать платье для Аделины? Она сегодня идёт на бал! — Конечно, помогу, — ответил Герман. Он изо всех сил гнал от себя тревожные мысли, но те не слушались и вылезали из самых потаённых уголков его сознания, как крысы из щелей. Кирилл забрал его домой, где безопасно и тепло, но что с другими актёрами? Они провели целую ночь в сырой и холодной камере! И как он будет смотреть им в глаза на следующей репетиции? — Мне кажется, Аделине идеально подойдёт вот это синее платье с кружевами. А ты что думаешь? — А может, лучше розовое? — Кира наклонила голову и дёрнула себя за прядь волос. — А ты заплетёшь ей косички? А то у меня не получается! — Они меня теперь окончательно возненавидят. И каково мне будет играть на сцене со столь явственным чувством отверженности? — прошептал Квятковский, нервно кусая губы. — Папа? — Прости, дочь, я задумался. Герман взял куклу и начал заплетать её волосы. В это время Кирилл, уже полностью успокоившись, подошёл к дверному проёму и не смог сдержать улыбку. — Герман, ты отлично справляешься, — заметил он. — Да это же проще простого. Кирилл, ты не будешь против, если я сегодня освобожу кухарку от её обязанностей и сам приготовлю обед? — Это твой дом, и ты можешь делать здесь что угодно. Но разве тебе не хочется отдохнуть? — Отдых расхолаживает. Сегодня отдохнёшь, завтра отдохнёшь, так и не заметишь, как разучишься делать что-то полезное. Я однажды уже отдохнул, когда меня из ссудной кассы выперли: сразу и в кругосветное путешествие захотелось, и новых знакомств, и мечты какие-то в голову полезли… Дурь всякая, одним словом! Безделье — это ловушка дьявола. — А лучше так себя загонять, чтобы ничего не хотеть и не чувствовать? Чтобы не замечать свою жизнь? — Нужно не разглагольствовать, а делать дела. К тому же, я соскучился по нашим семейным ужинам. Хочу порадовать тебя и Киру чем-нибудь вкусным: например, пирогом с яблоками. Кирилл прищурился, оценивая состояние своего супруга. — Это будет замечательно. Но не переусердствуй, хорошо? Ты вчера и так изрядно переволновался. Я беспокоюсь за тебя. Герман отложил куклу и подошёл к Лаврентьеву. — Я всё понимаю, но именно такие моменты помогают мне справляться с неприятностями. Быть с вами, чувствовать вашу поддержку… Это даёт мне силу. Не волнуйся, я в порядке. Ты вовремя забрал меня, освободил от холода и сырости. Ты — мой герой, мой рыцарь в сияющих доспехах. — Ты же знаешь, я всегда буду рядом. — Знаю. Поэтому не позволю себе упасть. Они ещё некоторое время стояли в молчании, наслаждаясь теплом друг друга, пока Кира, заскучав от ожидания, не решилась нарушить тишину: — А когда вы уже поцелуетесь? Всё ходите вокруг да около, как два кота перед миской! Кирилл не смог удержаться и рассмеялся, пока довольная собой Кира прижимала к груди куклу и сияла, как маленькое солнышко. — Ну что ж, если наша принцесса требует поцелуй, — Кирилл наклонился к Герману, сделав вид, что собирается поцеловать его в губы, но внезапно чмокнул в нос. — Теперь можно идти на кухню! — пуще прежнего развеселилась Кира. — Папа, ты обещал пирог с яблоками! Только не забудь, что в прошлый раз ты забыл положить в него сахар, и мы все по очереди плевались. Когда троица добралась до кухни, Герман встал посреди комнаты, будто командующий перед началом великой битвы, и объявил: — Сегодня я приготовлю такой пирог, что вы оба будете молить меня сделать ещё один! Все ваши предрассудки насчёт моих кулинарных талантов будут развеяны в один миг! — Главное, не добавь туда лук, — съехидничала Кира. — Ладно, не буду! Только изысканных французских рецептов вам и не хватало! — Гермуся, ты уверен, что помнишь рецепт? — спросил Кирилл, взяв Киру на руки и посадив её стол. — Да я этот пирог с закрытыми глазами сделаю! — надулся Герман. Он взял яблоки и начал нарезать их с таким рвением, что несколько кусочков разлетелись по кухне, а один даже приземлился прямо на голову Витязя, который спокойно дремал на коврике. Кот, почуяв неладное, одним движением стряхнул яблоко и покинул кухню, предпочтя уединиться в другом углу дома. — У меня всё под контролем! — Герман открыл мешок с мукой, и, размахнувшись, высыпал половину его содержимого прямо на себя и на стол. Кира захлопала в ладоши: — Папа, ты у нас настоящий мельник! Или, может, снеговик? — Герман, дорогой, позволь мне немного помочь тебе? — вмешался Кирилл. — Нет, я справлюсь сам! — отказался Герман, попутно вытряхивая муку из волос. — Но спасибо за предложение. Ты лучше сними Киру со стола, а то она тоже станет снежной королевой. А вот и тесто! Смотрите, как я его раскатываю! — и он с таким энтузиазмом принялся раскатывать тесто, что то прилипло к скалке, а потом и к столу. — Главное, не переживай, — шепнул Кирилл, понимая, что дело принимает нежелательный оборот. — Если пирог не получится, мы сможем приготовить что-нибудь другое. — Например, кашу, — кивнула Кира. — Её сложно испортить. Герман наконец-то признал своё поражение и бросил скалку в таз. — Ладно, каша так каша! Пирог подождёт до следующего раза. — Я уверен, ты бы справился, если бы не был столь развинчен, — добавил Лаврентьев, увидев, как расстроился Гермуся. — Заметно, что мыслями ты очень далеко отсюда. — Да, я не могу не думать о ребятах из моей труппы. А вдруг они до сих пор в камере? Вдруг им никто не помог? Мне не следовало уходить с тобой. Это было нехорошо, несправедливо. Снова получилось так, будто я лучше них… — Не «будто», а так и есть. Гермуся, таких друзей — за уши и в музей. Я уверен, что ты пошёл в трактир только после нескольких минут их уговоров. Ты пытаешься при любых обстоятельствах оставаться с ними в нейтральных отношениях, но на деле только развязываешь им руки и позволяешь водить себя за нос. Я тоже во многом виноват. Во-первых, я приехал позже обещанного времени, а во-вторых… — Кирилл умолк; было заметно, как он обозлился на самого себя, — мне не нужно было отпускать тебя в этот серпентарий! Я догадывался, что всё так будет! — Но мне нравится играть на сцене. И публика меня очень любит. — Да, но эта самая сцена заметно пошатнула твоё физическое и душевное здоровье. Ты очень впечатлительный, ты слишком сильно вживаешься в каждую свою роль, и я боюсь, что однажды ты не сможешь вернуться к себе настоящему. А помнишь, как после третьего спектакля ты два дня не мог подняться с постели, потому что сорвал голос и заработал лихорадку? Пойми меня правильно, я не прошу тебя всё бросить, но научись ставить границы между театральной и реальной жизнью. Герман подул на свой разгорячённый лоб. Прядки волос взметнулись вверх, ему стало легче, но ненадолго. Он знал, что многие субтильные парни и девушки мечтают о надёжном и сильном человеке рядом; таком, за которым они будут как за каменной стеной. Но они не учитывают одного факта: эта стена оградит их не только от боли и невзгод, но и от всего остального: от друзей, самореализации, новых впечатлений и свободной жизни. Быть тем, кого любят до беспамятства, и играть роль выхоленного цветочка в прекрасном саду — хорошо лишь до поры до времени. Но в один прекрасный момент ты задумаешься о происходящем и осознаешь, что ничего из себя не представляешь. У твоей «каменной стены» — увлечения, друзья, свои деньги и своя жизнь, а у тебя — куча подарков, упущенные возможности, полузабытые стремления и тотальное непонимание: «А что я буду делать, если он уйдёт? Или если с ним что-нибудь случится? Я ведь без него шагу ступить не смогу!» Может, он, Герман, тоже был в чём-то виноват: неправильно себя поставил, не сумел показать характер. Да чего уж теперь? — Кирилл, ты всегда знаешь, что сказать, чтобы заставить меня задуматься. — Я просто хочу, чтобы ты был здоров и счастлив. Мы с Кирой тебя очень любим. — Я тоже вас очень люблю. — И ещё, не пей эту проклятую водку! Думаешь, я вчера ничего не заметил? Тебе вообще нельзя пить! Ни в малых дозах, ни, тем более, в больших! Твои лёгкие и печень и так в плохом состоянии, и каждая капля алкоголя для них — яд! Герман не стал спорить, зная, что Кирилл прав. — Прости меня. — Дело не в извинениях, бриллиант души моей. Мне нужно, чтобы ты по-настоящему осознал, чем это может обернуться. Я не хочу угрожать тебе, но если ты снова поддашься искушению, я добьюсь того, чтобы тебя на какой-то период отстранили от работы в театре. Прости, Герман, но ты не оставляешь мне выбора. Я уже убедился, что вежливые разговоры тут не помогают, как и полумеры. Прошу, не доводи до такого — остановись. Ты сильный, ты уже справлялся с этим. Главное — помни, что ты не один, что мы с Кирой всегда придём тебе на помощь. Но мы не переживём, если с тобой что-нибудь случится! Кира, до этого молча наблюдавшая за разговором, вдруг спрыгнула со стола, подошла к Герману и сказала: — Пап, если ты пообещаешь не пить, я буду приносить тебе твои любимые пирожные — даже если придётся вставать пораньше и самой их покупать! Герман, растроганный искренностью дочери, присел на корточки, чтобы оказаться на её уровне, и ответил: — Обещаю, солнышко. Я не буду пить. И крепко обнял Кирочку, ощущая, как тень её невинной заботы скользит по его душе, но не прогоняет тьму. Герман понимал, что эти обещания — лишь слабая попытка удержаться на краю, но страх потерять доверие семьи сжимал его сердце холодной рукой. За спокойным фасадом уже зарождалось ощущение неотвратимости нового падения. *** На следующий день Герман пришёл в театр, надеясь, что недавние неприятности уже отошли для всех на второй план. В его голове всё ещё крутились слова Кирилла, о том, как важно ставить границы между театральной и реальной жизнью. Но когда он вошёл в здание, его встретила холодная, почти ледяная атмосфера. Актёры, словно снежные фигуры, разбросанные по замёрзшему полю, смотрели на него с неприкрытым презрением. Герман попытался заговорить с Клариссой, которая обычно не показывала к нему неприязни, но та сразу отвернулась. Тонкая ткань терпения Квятковского начала трещать. Наконец, он заметил Павла, стоящего у стены с листом бумаги в руках. — Добрый вечер, ребята, — поздоровался Герман. — А что происходит? — Добрый он только для тебя, — ответил Павел. — Неплохо провёл время, пока мы сидели в камере? — Паршивец! — прорычал какой-то парень, имени которого Герман даже не знал, и двинулся на него с кулаками, но был вовремя остановлен Костей: — Ты что, не трогай его! Хочешь, чтобы его любовник потом тебя с землёй сравнял?! На середину коридора вышла Кларисса — неоспоримо красивая, стройная, точно лоза, и с причёской уже в три яруса. — Герман, мы от тебя устали, — голос девушки прозвучал как колокольчик, но в нём присутствовало что-то ядовитое, — ты всегда выходишь сухим из воды. Пока все мы пытаемся выжить в труппе и огромными усилиями завоёвываем признание зрителей, коллег и руководителей, ты всё получаешь на блюдечке с голубой каёмочкой и живёшь так, будто был рождён в королевской семье! Ты, который когда-то работал уборщиком и носил фуфайку с заплаткой на боку! — Слишком много незаслуженных привилегий, — зло прошипел стоящий слева от ораторши молодой мужчина. — И ты этого совершенно не стесняешься! Ты сидел дома, пока твоих коллег держали в холоде и сырости! Между прочим, из-за потасовки, которой бы не случилось, если бы ты умел себя защищать! Но всё, что ты умеешь, — это открывать рот на уровне чужой ширинки. — Зачем вы меня так обижаете? — спросил Герман, чувствуя предательские спазмы в горле. — Я не просил Кирилла меня забирать. Он сам пришёл. И вы же знаете, что у меня слабое здоровье. Это не шутки, если бы я остался с вами, то мог бы не дожить до утра. — Слабое здоровье? Значит, ложись в больницу до полного выздоровления. Нечего выносить свои недомогания на всеобщее обозрение и давить на жалость. Здесь театр, а не богоугодное заведение. Мы не обязаны носиться с тобой, чахотиком, как с писаной торбой. Достаточно, что нам уже запретили курить в непосредственной близости от тебя. — Абсурд, — отплюнулся Костя. — Я курю с пятнадцати лет, и моя привычка никогда никому не мешала. С какой радости я должен мириться с этими внезапно появившимися ограничениями? В кабинет к вышестоящим заходить с папиросой можно, а в гримёрную к актёришке Квятковскому — ни в коем случае! — И так во всём! — подхватил ещё один спорщик. — С тобой, Герман, нельзя спорить, нельзя не соглашаться… — Да почему нельзя?! — вспылил Герман. — С чего вы это взяли?! Сами придумали, сами обиделись! Спорьте, дискутируйте, это даже интересно! — Чтобы нажить проблем с твоим любовником? Нет, спасибо. Герман почувствовал, как слова замерли на кончике его языка — горячие и колючие, готовые вырваться наружу, несмотря на страх и беспокойство, засевшие у него внутри. — Кирилл для меня — не просто любовник. Мы живём вместе и воспитываем мою дочь. Мы — семья. — И что? Может, ещё попросишь называть его твоим мужем? Самому не смешно? — Твоя личная жизнь здесь тоже всем поперёк горла, — поведал Костя. — Зачем ты её афишируешь? Что ты хочешь этим доказать? Никакого уважения к традициям! — Мы здесь работаем не для того, чтобы терпеть твои особенности, — с тяжёлым сердцем изрёк Павел. — И зрители приходят в театр не для того, чтобы видеть таких, как ты. Сцена предназначена для настоящих мужчин, а не… — он замялся, подбирая слова, и закончил с явным презрением, — для тех, кто своим поведением позорит себя и нас. Герману казалось, что пол под его ногами раскалывается, и он вот-вот рухнет в пустоту. — Остановитесь! — попросила Кларисса. — Иначе вы сейчас договоритесь бог знает до чего! Я бы не назвала поведение Германа вызывающим. Да и они с Кириллом очень красиво смотрятся вместе. Просто… Герман, что тебе помешало попросить своего возлюбленного помочь не только тебе, но и нам? Ему было это под силу. Ты — талантливый актёр и, подозреваю, хороший семьянин, но ужасный коллега. — Кларисса, я слишком хорошо знаю Кирилла! — ответил Квятковский. — Он бы не согласился! Только бы ещё сильнее вышел из себя! Он не очень доброжелательно к вам относится… — А почему? Уж не потому ли, что ты настропалил его против нас? Герман стоял посреди коридора, словно корабль, окружённый волнами враждебности. Каждый взгляд и каждое слово его коллег были сродни ударам, расшатывающие его внутренний баланс. В этот момент на «поле боя» вышла тяжёлая артиллерия в виде недавно пострадавшего Влада. — Герман, а тебя вообще не тревожит, что Кирилл так часто выходит из себя? — начал тот, медленно и с удовольствием растягивая слова. — Не боишься, что однажды он не остановится? Внутри него живёт настоящий зверь. Он может тебя защитить, но кто защитит тебя от него самого? Квятковский почувствовал, как кровь прилила к его лицу, а затем отхлынула, оставив после себя смертельную бледность. Вопрос Влада пробрался в самые глубины его души, тронув то, о чём он старался не думать. Он знал, что связал свою жизнь с далеко не самым мягкосердечным человеком, но так же знал, что его Кирилл не тронет даже под угрозой расстрела. — Это не твоё дело, Влад. Кирилл никогда не причинит мне вреда. Он меня любит. — Любит? А может, ты просто убеждаешь себя в этом, чтобы не сойти с ума от страха? Такие, как Кирилл, умеют лишь контролировать, подчинять и ломать. Он использует твою слабость, чтобы держать тебя на поводке. Рядом с ним ты никогда не будешь свободным. — Хватит, Влад! — вновь попыталась погасить конфликт Кларисса. — Ты просто не можешь смириться с тем, что Кирилл поднял на тебя руку. Хотя он правильно сделал! Тебя давно пора было поставить на место! — Разговор перетёк в иное русло, — снова вмешался Костя. — Давайте успокоимся. Герман, всё сводится к тому, что мы больше не хотим с тобой работать. Ты — не хороший и не плохой, а просто не один из нас. Ты — как бельмо на глазу, постоянно напоминающее, что мы хуже тебя, и что у нас нет множества возможностей. — Да, прости, но мы устали это терпеть, — согласился Игорь. — Мы уже написали письмо руководителю с просьбой о том, чтобы тебя перевели в другой театр. Так будет лучше для всех. Может, на новом месте тебе удастся найти друзей. Внутри у Квятковского всё перевернулось, смешав горечь, обиду и ужас в один удушающий коктейль. — Письмо? И что же вы в нём написали? Что я слишком хорош для вас? Что вас угнетают мой талант и отдельная гримёрная? Или что вы страдаете от того, что рядом со мной нельзя курить, и от того, что у меня есть любимый человек? — Нет. Мы написали, что за минувшие месяцы ты проявил себя не с лучшей стороны и так и не смог влиться в нашу компанию. — Что значит «проявил себя не с лучшей стороны»? Как именно? Я никогда с вами не ссорился, не оскорблял вас и не говорил, что я лучше! Я всегда был готов прийти вам на помощь, делился с вами сладостями, цветами, чернилами… — Достаточно, Герман. Мы всё сказали. Мы хотим расти, но рядом с тобой это невозможно. Позавчерашний вечер стал последней каплей. Либо уйдёшь ты, либо уйдёт вся труппа. И Анатолий Петрович не захочет так рисковать. — И не вздумай пожаловаться Кириллу, — не промолчал Влад. — Иначе мы окончательно перестанем тебя уважать. Докажи, что в тебе ещё осталось хоть что-то мужское, и уйди достойно. — Не нужно письма, — твёрдо сказал Герман. — Это уничижительно и для меня, и для вас. Я сыграю в спектакле, к которому мы сейчас готовимся, и уйду сам — без напоминаний и вмешательства Анатолия *** Герман сидел в своей гримёрной, окружённый полумраком. Единственный источник света — лампа на столе — отбрасывала длинные тени на стены. Тяжёлый и удушающий запах грима смешивался с горечью, которая осела в груди актёра. Герман сжимал в руках бутылку водки — ту самую, которую ему в день драки принёс Влад, и которую он ещё не успел опустошить. Бутылка была холодной, но Герман знал, что напиток внутри неё — тёплый; настолько тёплый, что согреет его сердце и нарисует улыбку на губах. — От нескольких глотков ведь ничего не будет? — прошептал Квятковский, ощущая, как искушение обволакивает его подобно липкому мёду. — Просто допью, не позволю добру пропасть. У меня уважительная причина, мне нужно заглушить тоску! Внезапно в дверь гримёрной раздался стук. Герман не хотел никого видеть, но не нашёл в себе сил сказать об этом. В комнате возник один из тех актёров, что обошёл стороной групповую «расправу» над своим нерадивым коллегой: мужчина среднего роста с сутулыми плечами, придававшими ему вид человека, привыкшего скрываться в тени, тёмно-русыми волосами и серыми глазами, в которых светилась смесь недоверия и хитрости. Визитёр подошёл к Герману и протянул ему стакан, до краёв наполненный то ли настойкой на травах, то ли самым дешёвым абсентом. — Выпей, парень, — велел он. — Легче станет. Я знаю, что сегодня произошло в коридоре. Наши гиены тебя чуть не растерзали. Страшно подумать, как тебе сейчас тяжело! Ты ведь ещё молодой, творческий и уязвимый человек, который трудился, старался — и вдруг всё потерял. Квятковский взял стакан, но его пальцы дрожали. Воспоминания о Кирилле и Кире вспыхнули в его сознании, словно звёзды в ночном небе. Голос Кирилла, забота, которая окутывала его, проблемного балбеса, уютнее всякого одеяла… И Кира, его маленькая девочка, с её улыбкой и наивной верой в то, что её папа — самый лучший человек на свете. — Нет, — выдохнул Герман. — Я не могу, простите. Гость удивлённо присвистнул, но не стал напирать. — Как хочешь. — Я должен быть сильным и порядочным. Ради них. Мужчина кивнул и ушел, оставив Германа наедине со стенами. Квятковский остался доволен собой. Ему вдруг захотелось сделать что-нибудь хорошее, что смогло бы выразить благодарность, которую он испытывал к тому, кто был ему так дорог. Он достал из кармана пиджака слегка потёртый бумажник, в котором хранил жалования за свои последние выступления. Купюры нервно зашуршали под тонкими пальцами. Сумма оказалась приличной, и Герман широко улыбнулся. Он не знал точно, что хотел купить Кириллу, но внутри него уже зародилось ощущение, что это должно быть что-то особенное, что его избранник сможет носить каждый день, дабы помнить об их любви. Герман вышел из театра, где царила тишина, нарушившаяся лишь звуками его шагов. Актёр направился к ювелирной лавке, которую заприметил ещё месяц назад, проходя мимо после репетиции. Лавка была небольшой, но элегантной, витрина переливалась от света драгоценностей, обещая роскошь каждому, кто переступит порог. Внутри Германа встретили приглушённый свет и покой. За прилавком стоял пожилой ювелир с добрыми глазами и гладко зачесанными назад седыми волосами. — Добрый вечер, молодой человек, — поздоровался он. — Чем могу помочь? — Добрый вечер, — улыбнулся Герман. — Я ищу что-нибудь особенное. Хочу сделать подарок важному для меня человеку. — Есть ли у вас какие-то пожелания? — Нужно что-нибудь аккуратное и не слишком вычурное. Что-то, что символизировало бы мои чувства… — Герман замолчал, подбирая слова, — к тому, кто меня всегда оберегает и поддерживает. В глазах у ювелира мелькнуло понимание. — Я знаю, что вам предложить, — сказал он и снял с витрины серебряную цепочку. — Вот, посмотрите на это украшение. Оно элегантное и достаточно прочное. Герман взял цепочку в руки. Она была приятной на ощупь, и её звенья внушали ощущение силы. — Я куплю её. — Отличный выбор. — Спасибо большое. Из ювелирной лавки Герман вышел в приподнятом настроении, а до дома добежал почти вприпрыжку. Однако встретили его только прислуга и Кирочка. На столике в гостиной лежала цедулка, написанная твёрдым почерком: «Гермуся, меня впервые за долгое время пригласили в литературный салон на вечер обсуждения творчества одного перспективного поэта. Надеюсь, я не пожалею, что согласился. Вернусь поздно. Если захочешь, присоединяйся ко мне. Адрес на обратной стороне». В груди у Германа вспыхнул огонь одиночества, раздуваемый ветром сомнений и ревности, словно он снова оказался в том ресторане, где всё было слишком пафосно и чуждо. Он так нуждался в Кирилле! Именно сейчас, сию секунду! — Может, съездить туда и поздравить его с удачным вечером? — у самого себя спросил Квятковский. — А потом мы вместе вернёмся домой. Безумное решение пришло неожиданно, и Герман решил воплотить его в жизнь. Он наскоро принял ванну и надел пальто прямо на обнажённое тело. Его бледная кожа резко контрастировала с тёмной тканью, создавая эффект таинственной привлекательности. Капли воды, словно маленькие алмазы, украшали его шею и плавные изгибы ключиц. Когда Герман вышел на улицу, ему стало холодно, но ненадолго. Его быстро согрело предвкушение особенной встречи с Кириллом. Он не чувствовал никаких сомнений и колебаний. — «Мой поступок — своего рода метафора, — думал Герман, двигаясь по ночной Москве. — Это обнажение не только тела, но и души. Я более не хочу прятаться за костюмами и масками. Сегодня я предстану перед Кириллом таким, какой я есть на самом деле. А может, я просто подвинулся рассудком от потрясения после разговора с коллегами. Чёрт его знает! Но, главное, что Кирилл останется доволен». Наконец он добрался до литературного салона. Внутри было много людей, но Герман сразу заметил своего возлюбленного, стоящего в центре зала среди известных писателей и поэтов. Кирилл вёл беседу с одним из гостей, и на его лице играла надменная улыбка. Но как только он встретился глазами с Германом, надменность сменилась удивлением, восторгом и трепетом. Казалось, весь мир вокруг исчез, остались лишь они двое, связанные нитью, которая тянула их друг к другу, как магнит тянет металл. Каждый шаг давался Герману с трудом, но он не мог отступить и приближался к тому, кто был для него всем: защитой, страстью, вдохновением и домом. — Герман! — возрадовался Кирилл. — Как хорошо, что ты пришёл! Господа, познакомьтесь. Это Герман, чудеснейший и талантливейший молодой человек. Взгляд позднего визитёра скользнул по антикварной мебели, полкам с книгами, бархатным шторам и увесистым канделябрам — с ума сойти, какое всё красивое! Он сделал шаг вперёд, чтобы получше рассмотреть узоры на подсвечнике — тонкие линии переплетались, образуя сложные мотивы, которые будто оживали в мерцании огня. — Герман, что вас так заинтересовало? — спросил один из гостей. — Этот канделябр, — ответил Герман. — Он похож на доброго волшебника, который вот-вот шепнёт мне какую-нибудь тайну о мире. Небольшая пауза, вызванная неожиданным ответом, прервалась дружелюбным смехом. — Господа, Герман смотрит на вещи немного иначе, чем мы, — пояснил Кирилл. — В этом его уникальность. Герман почувствовал, как его сердце затрепетало от услышанного, словно цветок, попавший под лёгкий ветерок, но заметно напрягся, когда к нему подошёл немолодой мужчина с выразительными чертами лица и аристократическим изяществом в каждом движении. Квятковский попытался отойти, но незнакомец встал прямо перед ним и заговорил на чистом французском. — Чего-чего? — пробормотал Герман и вцепился в руку Кирилла, ища защиты от внезапной угрозы. — Кирилл, что он говорит? — Говорит, что ты ему понравился, — прилетел ему в ответ едва различимый шёпот. — Хочет увезти тебя к себе во Францию, целоваться среди виноградников под песни Ле Рошуа Мари. — Ты шутишь? — Да, шучу. Если серьёзно, то он просит твой автограф. Он узнал тебя по одному из спектаклей. — Даже твой первый ответ звучал правдоподобнее, — усмехнулся Герман. Ему было трудно поверить в то, что оказавшийся в Москве иностранец решил посетить скромный театр, но он принял из рук мужчины альбом и перо и вывел свою подпись на первой странице. Француз поклонился и снова принялся что-то рассказывать. — Я вас не понимаю, простите, — потупился Герман. В его глазах — огромных и сверкающих, как два солнца, поднимающихся из-за горизонта сквозь густую сеть ресниц, — читался страх, смешанный с растерянностью. — Он просит тебя подойди к вон той картине, — объяснил Кирилл и указал на стену, где висело полотно, изображающее сцену из древней легенды: мужчина в доспехах, окружённый алыми маками, стоял на коленях перед женщиной в белых одеяниях, протягивая ей меч. — Savez-vous ce que représente cette scène?— спросил иностранный господин. — Он спрашивает, что ты можешь сказать об этой сцене, — перевёл Кирилл. — Я… — улыбка Германа была подобна лучику в этот холодный московский вечер. — Я не совсем понимаю, что это за сюжет. Возможно, это древний рыцарь, который приносит клятву своей даме сердца? Или какое-то другое символическое изображение? — C'est une scène du mythe arthurien. Lancelot, lechevalier fidèle, offre son épée à la reine Guenièvre en signe de sa dévotion éternelle...— не умолкал француз. — Это сцена из артуровской легенды, где Ланселот, верный рыцарь, вручает свой меч королеве Гвиневре в знак вечной преданности, — Кирилл коснулся плеча своего возлюбленного, передав ему ощущение уверенности. — Француз хочет узнать, что ты думаешь об этом сюжете. — Я думаю, что это очень красиво, — ответил Квятковский, почувствовав себя гораздо лучше. — Данная сцена напоминает мне о том, что настоящая преданность — это когда ты готов отдать всё ради того, кого любишь, даже если мир вокруг рушится. И вообще, я считаю, что на земле существует лишь один смысл — быть верным своему сердцу и тому, кого оно выбрало. Кирилл, переводя эти слова их общему собеседнику, не смог не заметить, как глаза оного стали влажными от нахлынувших эмоций. Француз на мгновение застыл, а затем похлопал Германа по плечу. — C'est magnifique! Vous avez une âme très belle. — Он говорит, что у тебя очень красивая душа, — перевёл Кирилл. — Merci, — поблагодарил Герман. Пожалуй, это было единственное известное ему французское слово. — Герман, тебе не жарко? — спросил Лаврентьев, едва француз отошёл. — Может, снимешь пальто? — Я сниму его, только когда мы останемся наедине. — Ты что-то задумал? Что ж, пойдём. Я знаю место, где нас никто не потревожит. Он провёл Германа сквозь толпу гостей, не отпуская его плеча ни на мгновение. Они прошли через длинные коридоры салона и миновали несколько комнат, пока не оказались перед дверью, ведущей на балкон. Кирилл толкнул дверь, и они вышли на улицу. Здесь было очень тихо, и только ветер начал играть с краями пальто Германа, призывая его к ещё большему откровению. — Тут достаточно уединённо? — задал новый вопрос Кирилл. Рука Германа опустилась на пуговицы пальто и начала расстёгивать их одну за другой. Когда последняя пуговица была расстёгнута, он позволил одежде соскользнуть с плеч, открыв свою белую, почти сияющую на фоне ночного города кожу. — Герман, ты… — ошеломлённо начал Лаврентьев. — Ты шёл так от самого дома? Ты же и так насквозь простужен! Ох, господи! — Я хотел сделать тебе сюрприз, — засмеялся Герман. — Сюрприз? Ты мог не дойди сюда, свалившись без чувств на полпути! Не делай так больше, пожалуйста. Не рискуй собой. Кирилл нагнулся и поднял пальто, собираясь укутать Германа, защитить его от пронизывающего ветра, но внезапно остановился. Тело Квятковского было полотном, на котором играли тени и свет, каждая линия и изгиб его фигуры звали к себе, как неразгаданная тайна. Кирилл начал целовать холодную кожу, пытаясь согреть её губами. Герман наблюдал за своим возлюбленным, стоя на грани между реальностью и сладкой мечтой. — Ты сумасшедший, — прошептал Кирилл, опустившись на одно колено. — И я, наверное, тоже сошёл с ума, если даже сейчас не могу устоять перед тобой. Твоя нагота — не просто откровение тела, а ещё и откровение твоей души, которую я люблю больше всего на свете. Герман закрыл глаза, позволив себе раствориться в этом вечере. — Я хочу, чтобы ты видел меня таким, какой я есть. Без масок, без ролей… И чтобы знал, что я полностью принадлежу тебе — телом, душой, всем своим существом. — Ты всегда был настоящим, Герман. Кирилл продолжал осыпать своего супруга поцелуями.Пальто, которое он держал в руках, вновь упало на пол, как свидетельство того, что сейчас не было важно ничего, кроме их присутствия в этом моменте. А потом их губы наконец-то встретились. Кирилл чувствовал, как Герман дрожал в его объятиях, и обхватил его крепче, провёл руками по его спине и бедрам, желая защитить его не только от физического холода, но и от того, что иногда захватывал душу. Лишь спустя несколько минут Лаврентьев наконец-то укутал Гермусю в пальто и, посмотрев ему прямо в глаза, произнёс: — Пойдём, попрощаемся с людьми и отправимся домой. — Ой, я совсем забыл! У меня для тебя ещё один сюрприз. — Мне уже страшно. Герман потянулся к карману пальто и достал оттуда бархатную коробочку. — Вот. Я хотел подарить тебе что-нибудь, что ты мог бы носить всегда. У тебя, конечно, много украшений, но такого вроде бы нет. Кирилл открыл коробочку. Внутри лежала серебряная цепочка, прочная и в то же время изящная, с крупными звеньями, символизирующими стойкость их отношений. — Гермуся, это прекрасно. Спасибо огромное. Хотя обычно я говорю, что мне не нужно ничего, кроме тебя. Ты — самое ценное, что у меня есть. Мужчины постояли на балконе ещё немного, пока мир не вернулся к ним и не напомнил, что жизнь продолжалась. — Нам нужно попрощаться с гостями, — повторил Кирилл. Вернувшись в салон, он усадил своего возлюбленного в одно из кресел и накрыл его пледом. — Посиди здесь. Я скоро приду. Когда Кирилл завершил прощания и вернулся к креслу, то увидел, что Герман мирно уснул. Актёра быстро убаюкали тепло пледа и полумрак комнаты. — Вы только посмотрите, — восхитилась одна из дам, — какой он милый! — Герман, — позвал Кирилл, коснувшись плеча своего избранника. — Да оставьте его, — тихо засмеялся кто-то из сидящих справа. — Пусть спит. Утром заберёте. — Нет, так дело не пойдёт, — ответно засмеялся Кирилл. — Тогда я тоже здесь задержусь, — и аккуратно поправил плед. — Спи, Герман. Тебе сейчас это нужно.
