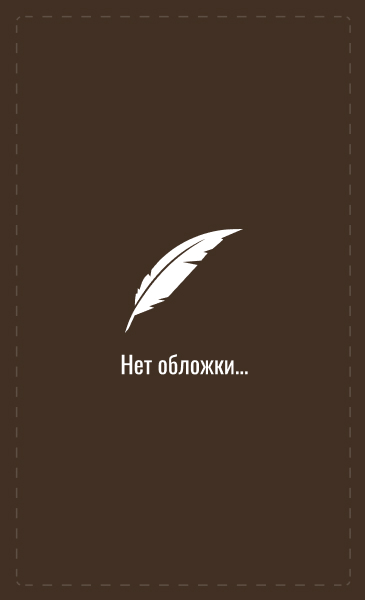
Пэйринг и персонажи
Описание
Какие мотивы (и факторы) определяют действия героев в истории первого падения Дориат - если смотреть уже не Сильмариллион, а собственно толкиновские тексты? И что в них меняется со временем?
(Доклад на Большом Толкиновском семинаре 2012 г.)
Примечания
Второй доклад "трилогии о мотивации".
Предыдущий: https://ficbook.net/readfic/018f43ca-d686-7a22-b6cc-6bfcf7eae576
Следующий: https://ficbook.net/readfic/018f5875-042c-7669-a2c3-8ebab2e46ae5/37487099
«Сказка о неслыханной жадности» (Развитие сюжета в «Науглафринге»)
06 мая 2024, 12:20
Если мы перейдем к сказанию о Науглафринге, единственному относительно подробному тексту на этот сюжет, то действие упомянутого проклятия (и проклятого золота) в сюжете проявится довольно скоро — и масштабно.
Приводить все примеры и цитаты пришлось бы довольно долго; если же суммировать, то выяснится, что проклятое золото так или иначе влияло и побуждало к действиям следующих персонажей:
- всех присутствовавших при сцене принесения золота, а именно: отряд, пришедший в Дориат с Хурином (здесь он снова действует) и эльфов, наблюдавших эту сцену; между ними затем происходит кровопролитное сражение;
- Тингола;
- гномов, обрабатывавших золото;
- лично эльфа Уфедина, обсуждавшего с гномами коварные замыслы;
- эльфов-предателей, благодаря которым гномы проходят через завесу;
- и, видимо, Берена и Лютиен.
В последнем пункте уже проявляется своя специфика, и речь идет именно о воздействии на них, все же прочие персонажи под влиянием проклятия совершают и различные действия. (Интересно, что ни здесь, ни в одном из последующих текстов не описывается действие проклятия на Мелиан или Хурина).
Таким образом, мотив, оказавшийся на этапе формирования сюжета одним из основных, здесь становится основным мотивом поступков. Кристофер Толкин отмечает в комментариях, что он «оказывает огромное влияние на ход событий, можно даже сказать… играет главную роль» (УС 2, с .246).
Надо отметить, что мотив этот все же не остается единственным: так, гномы говорят и о мести, когда узнают о гибели Мима – но мщение тесно сплетается у них, впрочем, с мыслью, что сокровища убитого Мима теперь должны перейти к ним (УС 2, с. 230).
Интересно, что формулировка «действующего фактора» бывает несколько различна: речь может идти о «чарах», «проклятии» или, в смешанном варианте, о «чарах проклятого золота». Установить какое-то распределение этих формулировок между разными персонажами не удалось: они в равной мере выпадают всем. Однако в описанном действии на них можно проследить некое различие, хотя и не вполне строгое (речь все же идет о художественном тексте!). Если говорится о «чарах», то они чаще всего усиливают привязанность к сокровищу у владельца (хотя бы временного) и желание заполучить его – у не-владельца. «Проклятие» же подвигает героев на действия или ставит в обстоятельства, приводящие к наиболее скорой гибели.
Эта двойственность, кстати, неплохо согласуется с происхождением проклятия и чар, описанных в окончательном варианте «сказания о Турамбаре». Вначале Мим просит Хурина не трогать сокровища, на которых лежит «зло драконов Мелько», и поэтому ими может владеть только он, Мим, «поскольку многими темными заклятиями связал … его с собой». Когда же Хурин не слушает его и убивает Мима, тот, умирая, предрекает, что «будет следовать смерть за этим золотом».
Таким образом, проклятие – это как раз реализация предсмертного пророчества Мима, а «чары» - вероятно, исходно те самые «темные заклятия», либо сами по себе действующие так в отсутствие исходного хозяина, либо изменившие действие под влиянием все того же проклятия.
Интересна и перемена, происходящая с этим главным мотивом после разгрома гномов и попадания Науглафринга-Наугламира к Берену и Лютиен. С одной стороны, еще во время раздора в войске гномов, когда часть из них уходит, сказано, что «проклятие Мима почти сразу обратилось против его собственного народа, с которым и пребыло, не тревожа более Эльдар» (УС 2, с. 235).
Однако в дальнейшем, после утопления сокровища (за вычетом Науглафринга) в реке исчезают скорее упоминания о чарах и порождаемой или «алчности». Зато Мелиан (здесь именуемая Гвенниэль) называет Наугламир «проклятой вещью». Также относительно скорая смерть Берена и Лютиен предположительно связывается с ним: «и быть может, в том, что это случилось так быстро, сказалась (? сила) проклятия Мима» (УС 2, с. 239-240).
К этому следует добавить, что след действия проклятия, причем именно в варианте принесения скорой гибели, будет заметен и дальше, в черновиках истории Эарендиля. Мы видели упоминание из «Номского словаря» о том, как проклятие «упокоилось» вместе с утонувшей (в этом тексте – окончательно) Эльвинг. Также в одном из набросков о плавании Эарендиля говорится: «Проклятие Науглафринга лежит на его путешествии» (УС 2, с. 254) - притом, что плывет он без самого ожерелья!
При этом в финале сказания о Науглафринге, в истории Диора, проклятие удостаивается лишь одного упоминания, причем в отрицательном смысле: для разорения Дориата при наличии феанорингов и их клятвы «не понадобилось даже проклятие Мима и дракона» (там же, с. 214).
Впрочем, истории Диора и Эльвинг в отношении мотивов персонажей я собираюсь проанализировать отдельно. Пока подведу промежуточный итог по Утраченным Сказаниям: проклятие, лежащие на золоте, как и «чары», на него наложенные, остаются главными мотивами действующих лиц – вплоть до утопления сокровища.
Что же происходит с сюжетом и мотивациями героев дальше?

