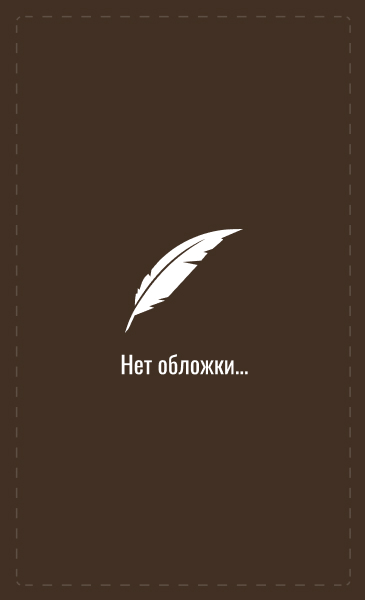
Пэйринг и персонажи
Описание
Финал истории через два месяца, и настала пора анализа «Атаки титанов» через призму мировой культуры. Разбираем персонажей, их влияние на восприятие истории, их возможные культурные прототипы, а также пытаемся определить значение работы Хадзимэ Исаямы в мировом общественном сознании и современной культурологии. Спойлеры!
Примечания
В работе я буду анализировать непосредственно произведение. Никаких статей, интервью, дополнительной информации. Опыт подсказывает мне, что создатели не всегда честны в своих ответах на вопросы, а произведения на то и произведения, чтобы каждый рассматривал их через призму собственного опыта.
Возможны непопулярные мнения. Работу пишу с точки зрения собственного восприятия данной истории, и она не является гарантом объективности.
Ставлю статус "закончено", но основная работа ещё продолжается и скорее всего потом будет дополняться.
Плейлист работы: https://open.spotify.com/playlist/7HJBkp4YTAOuibs3g2MGAh?si=A2y7t0fhRaCEBcHAMuKFbw
Посвящение
Тому дню, когда я решила, что не такая уж и плохая идея посмотреть краем глаза какое-нибудь аниме.
АТАКУЮЩИЙ ШАБЛОНЫ
16 февраля 2021, 02:37
Начало серии моих размышлений об «Атаке титанов» будет достаточно банальным. Я, как и многие, пойду по простому пути: как именно Исаяме удалось перевернуть представление о героических образах и как, используя шаблоны, можно рассказать историю злодея.
Немного моей личной истории. Я обывательская читательница и зрительница. Я не анализирую историю по ходу чтения или просмотра, а, как среднестатистический человек, легко иду на поводу у эмоций. Обманываться, любить, разочаровываться и понимать — это главные ценности, которые я не променяю на «сухой» разбор. Но когда пережитые эмоции притупляются, тогда начинается процесс пересказа истории самой себе, поиск ответов на вопросы, сопоставление опытов с другими ранее прочитанными или просмотренными произведениями.
Путешествие по собственному мироощущению с мангой и аниме под рукой — это то, как я собираюсь вложить данное произведение в свое самосознание. И, чтобы понять его, начну с анализа структуры повествования и методов обмана, что применили на читателях и зрителях.
Первые главы и первый сезон «Атаки титанов» предстают перед нами облаченными в эпос. Визуальные атрибуты повествования отсылают к немецкому Средневековью (дома, одежда, технологии). Мифологическими атрибутами стали локация (страна за стенами) и монстры, посягающие на спокойствие и жизни людей внутри локации (титаны). Чтобы сохранить равновесие, добиться справедливости (что напрямую зависит от смерти всех монстров), находится герой. Герой эпоса — прямолинейный, с четкими намерениями, ему нет необходимости подвергать сомнению собственные убеждения, так как он исполняет роль меча висящего над шеей истинного зла. Герой — это рыцарь, богатырь, полубог. Он, несомненно, отличается от других людей своими волевыми качествами или физическими способностями. Он принимает свою судьбу и борется за свою изначальную установку до конца.
Несомненно, речь идёт об Эрене Йегере. Именно он встречает читателей в новом мире, именно через его отношение к событиям мы начинаем выстраивать свои представления о происходящем. Автор не даёт время на то, чтобы приглядеться получше, составить собственное мнение. Даже больше: он не даёт возможности нейтрально отнестись к титанам, потому что открывающая сюжет сцена — чудовищный титан, готовый к атаке, и лица, искореженные от страха. Читателей и зрителей сразу окунают в ощущение предстоящей катастрофы, а потому лицо маленького мальчика, смотрящего на огромного монстра, не оставляет выбора, кроме как сопереживать ему. Кусок мирного времени, который не успокаивает, а лишь усиливает нарастающую панику, знакомит нас с Эреном, но любые его отрицательные или положительные качества не воспринимаются в серьёз. Какая разница, если его крохотные размеры не спасут его мирную жизнь? А последующие жуткие события не дают и шанса кроме как романтизировать героя, его помыслы и стремления.
Возникает резонный вопрос: а почему? Ответ — страх. Исаяма нашёл невероятный способ напрямую воздействовать не просто на эмоции читателя, а на его природу и инстинкты. Смерть от обломков, от рук человека, от болезни не вызвала бы в среднестатистическом человеке ничего сильнее грусти и, может быть, отчаяния из-за несчастной судьбы мальчика. Наука объясняет нам это тем, что страхи делятся на перманентные и случайные, и привычная нам смерть, с которой мы можем столкнуться хоть завтра, хоть послезавтра, вызывает именно перманентный страх, который мы обычно удачно блокируем и игнорируем, иначе наша жизнь состояла бы из бесконечной паники. Когда как случайный страх иррационален. Он заложен в нас ещё с тех пор, когда некоторая угроза была реальной, но на данный момент либо совсем не грозит, либо подобного рода смерти возможны с низким процентом вероятности. Перманентный страх находит выход через случайный, и мы теряемся в своей панике и ужасе. [1]
Быть съеденным заживо, стать жертвой безмозглого животного — это вид зоофобии, которая на сегодняшний день для многих потеряла свою актуальность. Однако, генетическая память оставила нам этот страх в наследство от предков, и поэтому от вида на чудовище (животное), пожирающее мать мальчика, становится жутко. Позиция жертвы, не способной дать отпор монстру, удовлетворяющему свои инстинкты, а также достаточно детально показанная расправа над человеком не может дать нам шанса отвернуться от Эрена, а его страх и бесконечное горе мы не рассматриваем как травму. Возвышение его страданий, романтизация его чувств становится неосознанным эффектом.
Мифологический мир, страшные чудовища, которые не жалеют нас, людей, которые не оставляют нам никакого другого выбора, кроме как бороться и убивать, превращают Эрена Йегера в героя эпоса.
Когда он говорит, что он истребит всех титанов до последнего, читателю и зрителю остается только согласиться и поверить.
Исаяма удивительным образом делает из своей истории закрытый мифологически мир. Эффект первого сезона не развеивается вплоть до конца третьего. Даже когда истинные причины проникают в идеальную былинную структуру, то остаются проигнорированными либо интерпретируются в соответствии с изначально заложенным восприятием. Как, например, секрет Энни, Райнера и Бертольда, действия которых не имеют шанса на «праведность» и «истинность», потому что простить им загубленные жизни не предоставляется возможным с тем набором информации, которым мы обладаем на данный момент. В закрытом идеализированном мире Эрен не может быть неправ, не может не стать героем эпоса.
А потом автор с удовольствием разбивает иллюзии идеалов о камень нашей реальности.
Само повествование снимает с себя облик былины и мифа, потому что с самого начала это была драма в фэнтезийном сеттинге, а мы упустили тот факт, что Эрен не преодолевал трудности, а медленно сходил с ума. Ведь никто не будет ставить под сомнение Геракла, Илью Муромца.
На протяжении всей истории до подвала было вполне нормально и посмеяться над Эреном, и не согласиться, и корить за эгоизм. Но красочность мира, романтичность эмоций, наличие комплексных персонажей и тот факт, что все они на его стороне, не позволят встать на противоположную.
Драма — царица противоречий, сложностей и общественного недопонимания. Она строится на реальных перипетиях человеческих отношений. Из эпопейной истории мальчика, победившего титанов, повествование превращается в изощрённую трагедию. Трагедия, вскрывающая конфликты, обличающая пороки каждого её участника.
Намёки на надвигающееся обличение трагедии были постоянно. Герой является уникальным физически, но не как идеализированный богатырь: он буквально становится своим врагом. Открывается секрет Имир, которая не повторяет судьбу троицы Энни, Райнера и Бертольда, потому что не является непосредственной участницей преступления в начале истории, но всё равно уходит вслед за «предателями». Эгоисты в обличии героев, сильные с виду богатыри, которые сдаются перед натисками судьбы, продажное государство. Это не только постмодернистская ирония, которая бы занималась деконструкцией эпоса. Это неизбежный путь однобокого взгляда на мир, результат самообмана. Потому что, по сути, это никогда эпосом не было, были лишь его функции. Шаблоны никуда не делись: Эрен идёт до конца, чтобы сделать то, что считает правильным, но что, в итоге, оказывается неверным. Трагедия заключается в расслоении внутреннего мира героя и его неспособности соотнести свое понимание справедливости с тем, что разделяют другие. Ведь герой знает, что ему отведено в одиночку нести крест, который на его спину взвалили каноны эпоса.
Поэтому на берегу моря мы, как Армин и Микаса, глядя на Эрена, замираем в изумлении. С этого момента мы понимаем эгоизм, стремления к свободе, внутреннюю пустоту героя как проблему; мы понимаем, что травмы воспитали в маленьком мальчике не стремление восстановить мир, а стремление отомстить. Мы все, как каждый на пляже, относились к нему неправильно с самого начала, но и относится иначе ни у кого из нас возможности не было.
Мы изумлены, потому что именно тогда от героя не осталось ничего романтичного.

