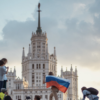Пэйринг и персонажи
Описание
«Люди красивые. Большинство из них. Остальное — дело вкуса, субъективные предпочтения. Мише, например, всегда нравились коренастые мужчины типа «шкаф икеевский обыкновенный», Катя предпочитала дам в полную противоположность себе — высоченных, тощих, чтоб ноги от ушей и вместо щек марианские впадины. Трубецкой знал, как правильно снимать и первых, и вторых, и многих других, чтобы получилось искусство. Именно за это ему платили такие деньги».
Примечания
Написано на седьмой тур кинк-феста по заявке: «Трубелеевы, нц-17, ню фотосессия для Кондратия в студии. Трубецкой - профессиональный фотограф. И чтобы всё красиво».
Посвящение
Заказчику!
///
11 ноября 2021, 03:52
Люди красивые, но совсем не умеют вести себя в кадре.
Это наблюдение Сергей сделал еще на заре карьеры. Задолго до того, как стал частым гостем в редакции Vogue Russia, задолго до того, как перестал рассылать резюме и смог позволить себе самому выбирать, с кем работать. Тогда, как водится, трава была зеленее, деревья выше, а в модельном бизнесе царил патриархат и еще ощущалось влияние плеяды топ-моделей из девяностых. Давно, короче. Но люди за это время мало в чем изменились.
Люди красивые. Большинство из них. Остальное — дело вкуса, субъективные предпочтения. Мише, например, всегда нравились коренастые мужчины типа «шкаф икеевский обыкновенный», Катя предпочитала дам в полную противоположность себе — высоченных, тощих, чтоб ноги от ушей и вместо щек марианские впадины. Трубецкой знал, как правильно снимать и первых, и вторых, и многих других, чтобы получилось искусство. Именно за это ему платили такие деньги.
Такая вот математика. Довольно банальная. Но работу свою он любил.
Возвращаясь к красивым людям, которые не умеют вести себя в кадре: теоретически, на этом этапе жизненного пути Сергей мог бы полностью отказаться от коммерческих съемок из серии «Я на фотосессии никогда не была, но всегда мечтала» и целыми днями фотографировать профессиональных моделей. Профессиональные модели умели нравиться себе в кадре, знали, куда встать и как повернуться, легко отрабатывали по пять-шесть часов на съемочной площадке, причем они делали свою работу, а Трубецкой — свою. И все оставались довольны. С профессиональными моделями вообще не было проблем, кроме одной: каждая вторая (или каждый второй, тут без разницы) считала своим долгом найти Сергея после съемки и недвусмысленно предложить продолжить вечер. Иногда — в статистическом расчете примерно один к десяти — Сергей соглашался. Девять к десяти: давил в себе раздражение и довольно сухо отказывал. У кого-то рабочий день, может, на съемке и заканчивался, а вот ему еще предстояло разобрать отснятое, отдать в ретушь, проверить статус готовности более ранних съемок, ответить менеджерам, стилистам и клиентам… Если хватит сил — разгрести директ в инстаграме. И только тогда можно было подумать о компании на вечер. Если желание и силы еще оставались, он предпочитал спуститься на улицу, дойти до ближайшего приличного бара и познакомиться с кем-нибудь там. Это было намного проще, чем трахаться с моделями.
И еще одна причина, по которой Трубецкой до сих пор не отказался от съемки простых смертных: иногда среди них попадались удивительные бриллианты.
Вот, как сейчас.
Все началось довольно стандартно: «Здравствуйте, Сергей, очень нравятся ваши работы, хочу подарить другу сертификат на съемку». По всему это была идеальная заказчица: девушку устроили все условия и расценки, Трубецкому перевели деньги, он выслал электронный сертификат и с чистой совестью забыл про нее до поры до времени. Он верил в равновесие вселенной и подвоха не ждал.
Клиент написал через несколько дней. Общался вежливо, грамотно и этим располагал к себе. Трубецкой по профессиональной привычке полистал его профиль: листья, огоньки, огоньки, листья, рок-концерт, свитер, опять огоньки. Кот. Много кота. Июньский митинг. Выставка Густава Климта в Москве. На митинге Трубецкой был, а вот на Климта так и не попал — было много работы. Стало чуть-чуть завидно.
Ему было лет двадцать пять. Красивое лицо, выразительные глаза. Совершенно очаровательные кудри. Как сказала бы Катя, «идеальный исходный материал». Трубецкой обычно выражался более мягко и эвфемистично, но в целом ее взгляды разделял. Они с Катей были знакомы столько лет, сколько большинство дружб в принципе не выдерживает. И пары по классической живописи прогуливали вместе.
Юноша представился Кондратием и в дилетантстве сознался сразу, на что Трубецкой облегченно выдохнул. Договаривались недолго: Кондратий сказал, что полностью доверяет его вкусу в выборе студии и антуража, а еще свободен, например, в ближайшую субботу, Трубецкой тоже был свободен в ближайшую субботу, и на этом вопрос оказался решен. Оставшиеся дни пролетели, как всегда, в вихре рабочих дел, а в субботу в десять утра он встретился с Кондратием в студии.
— Это моя первая такая съемка, — сказал Кондратий, когда Трубецкой проводил его в гримерку и сдал в Катины заботливые руки. — То есть, это вообще моя первая съемка. И сразу такая. Вы со мной намучаетесь.
— Уверен, что нет, — Трубецкой почти не слукавил. — Времени полно, у нас аренда на три часа. Ваша подруга обо всем позаботилась.
— Я до последнего надеялся, что она шутит.
В том, как Кондратий закрыл лицо руками, пряча смущенную улыбку, было что-то невыносимо трогательное, и Трубецкой услышал, как в голове сказали Катиным голосом: «Идеальный исходный материал». Миша как-то сказал ему, что это странно — чаще представлять людей обнаженными из чистой любви к искусству, чем из желания потрахаться, а Сергей не стал его разубеждать. Одно действительно не всегда подразумевало второе, но, что характерно, не всегда исключало его.
— Постараюсь сделать так, чтобы вы не пожалели. — (Он улыбнулся абсолютно искренне.) — Пойду посмотрю свет. Приходите, когда будете готовы, и… можем начать с чего-то менее откровенного, чтобы вы привыкли. Катюш.
— Не волнуйся, — Катя даже не сочла нужным отвернуться от вешалки, но Сергей не обиделся. — Не твоя забота. Иди уже, ты нам мешаешь.
— Как скажете. — На этом Трубецкой капитулировал и покинул гримерку.
Кондратий вышел к нему через полчаса, и Сергей подумал, что в очередной раз оказался прав. Катя поколдовала над его кудрями, немного припудрила лицо и тонко подвела глаза — они стали казаться еще ярче, совершенно космические глаза — с такими глазами люксовую уходовую косметику рекламировать, маняще улыбаясь с плаката. Как Трубецкой и предполагал, сразу раздеться он не решился: пришел в зауженных брюках, зато — в пиджаке на голое тело, анималистический принт на грани вульгарности, который на нем смотрелся удивительно органично.
— Отлично выглядите.
— Спасибо. — Кондратий просиял. — Непривычно, конечно, но мне тоже нравится.
— Вам очень идет. Подумайте. — Трубецкой взял с подоконника телефон и колонку, подбросил, поймал: — Что поставить? Может, джаз? Скажем, Пегги Ли…
— Депеш Мод, — фыркнул Кондратий, — или Раммштайн, что вам больше нравится.
Трубецкой прицокнул и сделал вид, что поражен в самое сердце. Кондратий заметно расслабился, на лице выступила самодовольная улыбка, и он записал несколько очков на свой счет: выбор музыки сюрпризом не был, в конце концов, инстаграм Сергей посмотрел не просто так. Просто Кондратию об этом знать не следовало — у всех свои профессиональные тайны.
Трубецкой запустил бесконечный плейлист с «нестареющим старьем» и вернулся за камерой. Студию он выбирал сам, поэтому было все: и огромное окно с видом на мост и море, и ростовое зеркало с подсветкой, и высокий стул перед зеркалом. Были странные объекты типа белого гипсового куба, вазы, прикинувшейся древней амфорой, и лестницы, застеленной роскошной кроваво-красной драпировкой. Наконец, были подушки, сваленные горой в углу. Но главное — не было кровати. Едва ли нашлось бы в этом мире что-то, что Трубецкой ненавидел больше, чем обнаженные съемки в антураже обычной спальни, пусть даже и дорогой. Для этого, в конце концов, необязательно ехать в студию.
В любой фотосессии — даже с профессиональной моделью — первые минуты самые трудные: и ты разогреваешься, и модель. Привыкаете друг к другу. Устанавливаете контакт. С «людьми с улицы» минуты обычно грозят затянуться на полчаса и на час, если вовремя не найти к ним подход, но Трубецкой умел — и обычно справлялся с раскрепощением довольно быстро. Кондратий, спасибо ему большое, изо всех сил старался помочь.
Они начали с элементарного: он сам придумал забраться на подоконник, эффектно выделялся на фоне бесконечной блеклой синевы артистической худобой и темной одеждой; белая деревянная рама крестом навевала незапланированный библейский подтекст. Сергей с удовольствием сделал первые несколько кадров, Кондратий развернулся на носках, прошелся вдоль подоконника и вдруг привалился спиной к стене, как будто или все-таки подсмотрел в сети советы по позированию, или имел какое-то своеобразное хобби, о котором не будешь кричать даже в личном блоге: четыре точки сверху вниз — затылок, плечо, бедро, пятка — поворот головы, не зажимающий шею, большой палец цепляется за шлевку. Трубецкой резко вдохнул и отснял еще несколько кадров. Пробудившееся чувство уже очень напоминало запойный творческий азарт. Кондратий, кажется, тоже его испытывал, потому что с хитрой улыбкой съехал по стене вниз и сел, свесив ногу вдоль батареи.
— Ты точно обо всех подработках мне рассказал? — Сергей неудобно скорчился на полу, выискивая удачный ракурс снизу. Кондратий успел сказать, что учится и работает. Разумеется, не моделью. — Спусти пиджак с плеча. Да-а, отлично, красота. Посиди так секунду.
Он метнулся к противоположной стене за прожектором, добавил света. Контуры стали ярче. Кондратий спустил пиджак, закрылся вполоборота и уставился на него из-за острого белого плеча, как маленький редкий зверек — Трубецкой испытал совсем уж редкое желание задержать дыхание и перемещаться как можно тише, чтобы ненароком не спугнуть.
— Мне предлагали, — сознался Кондратий спустя еще несколько кадров (сидя на том же подоконнике с широко разведенными коленями, упершись руками перед собой и обаятельно склонив голову, в спущенном пиджаке; под подоконником, в профиль, с рукой в волосах и озорной улыбкой; перед зеркалом в рост, он наконец решился снять пиджак и повесить на плечо, и это ему тоже шло невероятно). — Ну знаешь… знакомый знакомого, такое. Запускали интернет-магазин и хотели, чтоб я стал лицом их инстаграма.
— Почему отказался?
— Думал, что не мое. Ну какая из меня модель, — Кондратий пожал плечами, тряхнул головой, и это тоже попало в кадр.
— Отличная, — искренне похвалил Трубецкой. — Предлагаю перерыв на смену образа.
— Ты меня перехваливаешь.
Кондратий закатил глаза и скрылся за дверью. Без его голоса стало очень тихо. Музыка на фоне издевательски предлагала Трубецкому наслаждаться тишиной , но он не послушал: потер лицо ладонью, прогоняя оцепенение, достал из сумки термос и щедро хлебнул кофе. Нет, он на счет Кондратия не ошибся: работалось с ним хорошо, даже… слишком хорошо. Тут бы чрезмерно не увлечься, не за то ему все-таки деньги платят. Хотя мальчик был, бесспорно, очень красивый.
Особенно когда переборол неловкость.
Об этом Сергей подумал, когда он вернулся в зал через десять минут с вещами и в сопровождении Кати. На нем было… не было… Нет, пожалуй, все-таки было, хотя так и тянуло сказать «не было ничего». Было: что-то вроде восточных шароваров из соответствующе тонкой, полупрозрачной ткани цветом под золото. Браслеты на руке, браслеты на щиколотке. Блески на ключицах и под глазами. Преображение феерическое, не менее поразительное и завораживающее, чем когда из мягкого свитера он переоделся в дерзкий пиджак.
Катя подлетела к Трубецкому и звонко чмокнула в щеку:
— Я побегу. Мне еще заказ забрать, а в шесть надо быть у Полин. Хотелось бы где-то между успеть пожрать.
— Беги, Катюш. Дальше справимся.
— Ты на показе будешь?
— Не знаю пока. А нальют?
— Не обещали.
— Тогда не буду. Делать там больше нечего.
— Сноб.
— Ценю свое время.
Катя на прощание показала ему язык и ушла. Трубецкой заметил, что на всю их перепалку Кондратий смотрел озадаченно, будто пытался понять — что происходит. Если конкретно: в каких они отношениях. Обычно ему играло на руку, если посторонние люди принимали их с Катей за пару, в конце концов, это помогало избежать необходимости в очередной раз кому-то отказывать, но на этот раз подобное недопонимание показалось исключительно неприятным, и он пояснил раньше, чем подумал:
— Катя мой давний друг. Мы учились вместе и нас все пытались поженить, но она сама по девочкам и к тому же — не в моем вкусе.
Сергей пожалел почти сразу же, как сказал, но Кондратий выглядел так, словно ему эти слова принесли облегчение. Он кивнул, расслабленно улыбнулся и сказал:
— Ясно. Я, в принципе, так и думал, но… Ладно. А кто в твоем?
Сергей удивленно вскинул брови. Он снова взялся за камеру и уже прицеливался к новому образу и новому окружению: Кондратий как будто прочитал мысли и направился прямиком в угол с подушками. А где еще было снимать такой восточный шик?
— В моем, во-первых, все-таки больше мальчики. Хотя… — (Некстати вспомнилось Мишелево похабное «если ноги красивые, не так важно, что между них», но Трубецкой смолчал.) — Ладно, допустим, это не главное. Я люблю худеньких. Катя говорит, что у меня комплексы, потому что я всю школу не мог раскачаться.
— Ты был высокий и тощий? — Кондратий засмеялся, прикрыв рот рукой, Сергей щелкнул кнопкой, запечатляя: зритель не узнает, на фотографии это будет смотреться, как кокетство, очень естественно, очень маняще. Так же маняще, как узкие щиколотки в бутафорском золоте (ничего, капелька фотошопа, и ни один ювелир не отличит от настоящего), ключицы и грудь, ничем не скрытые — Кондратий был, да, действительно очень стройным, но чертовски гармонично сложенным, его худоба не имела ничего общего с нелепой худобой угловатого подростка или изнуряющего себя диетами анорексика. Скорее всего, он из тех счастливцев, которые после двенадцати за обе щеки уплетают бутерброды с колбасой и при этом умудряются не толстеть.
— Ужасно высокий и ужасно тощий, — признался Трубецкой, проезжая на штанах вправо, чтобы лишний раз не вставать. Как известно, если вы видите рядом двух людей, один одет с иголочки, а второй как бомж, присмотритесь, нет ли у бомжа с собой камеры — возможно, это модель и фотограф. В студию, в отличие от излюбленных Полин выездов на дикую природу, можно было надеть рубашку и приличные джинсы, но джинсы все равно, как правило, страдали. — Я очень переживал, что если не сделаю что-нибудь к выпускному, на меня не сядет костюм.
— Сложно представить, чтобы на тебя что-то не село.
Сергей на миг завис и выглянул из-за объектива. Кондратий все так же лежал на животе посреди подушек, подложив руки под голову и болтая ногами в воздухе, но его тон был совершенно серьезным. Ответный комплимент? Или взаправду — флирт?
В голове вспыхнул, застилая все, хорошо знакомый белый шум. Трубецкой сглотнул и вкрадчиво сказал:
— Спасибо.
— Не за что, — почти промурлыкал Кондратий и перевернулся на спину. В его движениях наконец появилась естественная расслабленность, которую Сергей изначально в нем подозревал и с самого начала пытался вытащить: наверняка в обычной жизни, не под прицелом камеры, он яркий, раскованный, уверенный в себе; непривычная обстановка сбивает всех, он проходил это много раз. Самые стильные красотки в кадре порой зажимаются и не выдают половины врожденного шарма. Тут главное…
— Кондратий, — ласково позвал Трубецкой, на минуту отложив камеру в сторону. — Кондратий. У тебя очень красивое имя. И фотографии — поверь, очень красивые. Но ты можешь больше.
Темные глаза уставились на него удивленно, как будто теперь Кондратий не мог понять, флирт это или часть рабочего процесса, и Трубецкой почти успел пожалеть, что перегнул палку и понял его неправильно, но через долю секунды удивление сменилось хитрым прищуром. Кондратий медленно, нарочито медленно оттолкнулся от пола (танцы? Пилатес? Как только он это делал) и сел напротив, подогнув под себя колени. Разъехались они, надо полагать, совершенно случайно.
— В каком смысле я могу больше?
Сергей снова схватился за камеру — единственный барьер между ним и этим испепеляющим беспощадным взглядом — спрятался за крошечным окошечком объектива, дающее иллюзию безопасности. Будто можно спрятаться от метеоритного дождя под вековой сосной.
— В прямом. Всего больше, Кондраш. — Трубецкой позорно отполз назад, отшатнулся, как от огня, может, и не зря — с такой энергетикой только сжигать заново: Кондратий уперся руками в пол и по-кошачьи тихо прополз полметра навстречу. — Кадры потрясающие, но… постановочные. А ты можешь сыграть лучше. Правдивее. — Он нервно сглотнул. Говорить ровно становилось труднее с каждой фразой. Они словно поменялись ролями — Кондратий теперь владел ситуацией, а Сергей не мог просчитать дальше даже на пару шагов. — Не позируй.
— А что? — почти невинно поинтересовался Кондратий и вдруг упал вперёд на локти, с локтей перекатился на вытянутые руки, прогнулся и перевернулся на спину.
Дурацкое, пошлое, плоское «соблазни меня» застряло поперёк горла; Трубецкой почувствовал себя последним придурком, которого обвели вокруг пальца, неопытным мальчишкой, так легко поддавшимся чарам. Кондратий провел руками вдоль тела, браслеты звякнули, привлекая внимание, завел за голову и сладко потянулся, окончательно превращаясь в глазах Трубецкого в кого-то из кошачьих. Наглых, умных и знающих себе цену кошачьих. Растерянно и беспомощно клацнул зубами затвор.
— Ты не сказал, что мне делать, — лениво протянул Кондратий, явно наслаждаясь внезапно приобретенной властью. Сложно было его осуждать.
— Продолжай, — пробормотал Трубецкой, смешно подскочив на ноги. Несколько кадров сверху вниз. — Забудь, что я сказал. Просто продолжай.
— Как скажешь.
Кондратий тоже встал, выпрямился, покрутился на носках, красуясь летящей тканью и золотым блеском; Сергей впервые смог оценить его вот так полностью, цельной картинкой, в рост. И в джинсах, кроме шуток, правда давно было тесно — просто ему до сих пор удавалось отвлекаться от очевидной, примитивной идеи, что Кондратия хочется не фотографировать, а что-то другое, только благодаря жесткому фокусу на работе.
— Раздевайся, — сдался Трубецкой, — снимай к чертовой матери, хочу тебя, а не всю эту бутафорию. В кадре.
Последнее уточнение прозвучало почти беспомощно, жалко, лучше бы не говорил, но было поздно. На кнопку он нажимал, кажется, исключительно по привычке, потому что привык нажимать — за столько лет; голова была занята совершенно другим. Атлас заструился по бедрам вниз, стек к щиколоткам, собравшись у ног воздушным облаком, из которого Кондратий вышел все с той же безупречной грацией, переступая ровно и уверенно. На нем осталось только белье — брендовое, кстати, Трубецкой отлично знал эти марки, которые так отшивают базовый монохром, что от него за километр веет ценой и качеством. Он даже не делал вид, что пытается не смотреть вниз — не пытался: у Кондратия были красивые бедра и стройные ноги, он шел вперед к той стене, от которой спускалась лестница, иногда оборачиваясь через плечо, и Трубецкой не мог думать ни о чем, кроме: как бы не уронить камеру и — подтвердятся ли его догадки, если Кондратий развернется лицом.
Он был уверен на девяносто девять и девять десятых, что подтвердятся. И отчаянно нуждался в этом подтверждении.
У задрапированной лестницы Кондратий остановился, повернул голову в профиль, в окно (Сергей с удовольствием сделал пару кадров в льющемся оттуда бело-золотом свете), задумчиво забарабанил пальцами по ступеньке:
— Знаешь, я тут подумал…
— М?
— Насчет атрибутики. — Кондратий резко обернулся и посмотрел Трубецкому в глаза. Только теперь стало очевидно, что за это время он успел подойти близко, очень близко, на расстояние пары шагов, может, меньше, если шагать широко. — Мне бы… рубашку. Большую белую рубашку… Вот… Вроде твоей.
«Меньше, — понял Трубецкой с опозданием. — На расстояние вытянутой руки».
Понял — потому что Кондратий руку протянул. И потому что быстрые цепкие пальцы поймали его за верхнюю из застегнутых пуговиц и бесцеремонно расстегнули, а Сергей не смог — не захотел — ничего ему возразить. Он стоял молча, дышал через раз, медленно и неровно, пока пуговицы одна за другой выпадали из петель. Наконец Кондратий разделался с последней и уточнил, бессовестно хлопая ресницами:
— Ты же не против, да?
Трубецкой был более чем уверен, что в реальной жизни он так — ресницами — не делает никогда. Это было форменное издевательство, и от этого издевательства вскипала кровь.
— Не против, — процедил он, тщательно контролируя голос. — Подержи камеру.
Кондратий действительно послушно подержал камеру, пока он снимал рубашку и расправлял ее, так же без дураков вернул, когда Сергей протянул ему вещь и сказал: «Бартер». Интуиция у него была что надо, он, кажется, умел добежать до края и затормозить на самом краю.
Отчаянные и чуткие Трубецкому нравились. И тонущие в его рубашках — тоже.
Кондратий был и то, и другое.
— Вижу, про тощую дылду байка из прошлого, — он облизнулся, даже не скрывая особенно, что рассматривает, Трубецкой подумал, что вполне имеет право пялиться на него в ответ, и сказал:
— Тебе всегда все сходит с рук?
— Не всегда, — честно признался Кондратий, взбегая по лестнице. — Но обычно.
— Избаловали.
— Я просто красивый, так что желающие всегда находятся.
— Проблема в том, что ты еще и умный.
Кондратий громко засмеялся, стянул браслеты — сначала с руки, потом с щиколотки, снова без труда балансируя на одной ноге, прицелился ими в Сергея, но в последний момент сжалился и бросил на пол. Несколько живых, непосредственных кадров. Даже не эротичных в базовом смысле этого слова, но почему-то именно сейчас желание отложить камеру, снять его с этой лестницы и разложить здесь же на полу стало практически невыносимым. А ведь за все время он даже ни разу полностью не разделся.
— Это не моя проблема. — Кондратий улыбнулся во весь рот, усаживаясь на краю лестницы в обнимку с псевдо-амфорой, и подтянул колено к груди. — Мне только на руку. Ты что, никогда не пользуешься тем, что красивый?
Трубецкой сделал еще несколько снимков и встал напротив. В ушах звенела и клокотала ярость — не злость, нет, самая обычная ярость, пробуждающаяся в любом приличном человеке, когда перед носом машут тем, чего очень хочется, но не дают; перед глазами было пламенно-красно — и вовсе не от цвета фоновой ткани.
— Только когда снимаю в баре таких, как ты, — тихо сказал Сергей. По всей видимости, это прозвучало достаточно угрожающе, потому что ненадолго Кондратий даже перестал ухмыляться и только когда понял — снова захохотал и уперся пяткой Сергею в плечо. Это стало последней каплей: да, он повелся, повелся на провокацию, пусть достаточно хитрую и элегантную (это не особенно утешало), но стыдно уже не было и сожаления не было тоже — Трубецкой отложил камеру на свободную ступеньку, подошел вплотную и сгреб Кондратия в охапку, как получится, главное — всего целиком, наконец-то , уложил поперек плеча. Выбирать было особенно не из чего, изо всего более-менее годились только подушки. Впрочем, своим поведением большего он не заслужил.
Кондратий не жаловался. Пока Сергей нес его через зал — так жадно шарил руками по его спине, что было понятно: тоже дорвался. Интересно, как давно хотел это сделать?.. На подушки Трубецкой его практически уронил, Кондратий откинулся на локти, посмотрел на него исподлобья жарко и вызывающе, в последний раз художник в Трубецком взял верх над простым смертным, и он подумал, что из этого — ну конечно, плакатную рекламу дорогого парфюма или лучший кадр для лукбука с брендовой коллекцией белья и одежды для сна. Больше подобные мысли не приходили.
Кондратий стонал, царапался и постоянно вертелся, пытаясь дотянуться до всего и сразу, с ним было бы сложно справиться, но как-то не особенно хотелось — Трубецкой один раз утянул его в долгий мокрый поцелуй, а потом милостиво отпустил и позволил делать что хочется. Сам ухитрялся подстраиваться под его хаотичную страстность, попадал губами в шею, в ключицу, сполз вниз между полами расстегнутой рубашки; Кондратий вздрогнул и выгнулся, стоило лизнуть вдоль живота, вскрикнул, когда Сергей прикусил выступающую косточку и рывком сдернул до колен белье, сжал ягодицы, провел языком по члену — и тут же отстранился, вывернувшись из-под потянувшейся к волосам руки. Кондратий обиженно хныкнул, но Трубецкой не разжалобился. Пока он спешно раздевался, Кондратий снял белье и теперь жадно следил за каждым его движением, схватил за руку и потянул на себя, как только джинсы оказались свалены в одну небрежную кучу с кроссовками и носками. На них обоих ему не хватало обхвата ладони, но он компенсировал рвением и неожиданной — правда, неожиданной от него по первому впечатлению, но уже вполне ожидаемой по дальнейшему — жадностью. Потом ему и это наскучило, он требовательно закинул ногу Сергею на плечо и многозначительно двинул бедрами навстречу.
— До машины потерпи.
— Не хочу терпеть, — фыркнул Кондратий и двинул бедрами снова. Нога съехала на пояс, он не отчаялся и закинул вторую, крепко обняв за пояс. — Хочу сейчас. Не бойся, не сломаюсь. Сам прошу. Ну?
— Ладно. — Трубецкой выдохнул сквозь зубы и притянул его к себе ближе, от соприкосновения прошибло дрожью — тоже хотелось, конечно, и совсем не хотелось терпеть до машины, но он все-таки оставался джентльменом, даже собираясь трахнуть малознакомого мальчика на полу арендованной студии, тем более — технически — мальчик даже не был его клиентом. Не в юридическом смысле этого слова. Не то чтобы он оправдывался. — Больно будет.
— Знаю, не дурак, — огрызнулся Кондратий.
— Я просто предупредил. — Сергей примирительно поцеловал его вредный рот, целовал, пока он не расслабился снова, пока не ушла взвинченность и не осталось одно возбуждение. Погладил губы большим пальцем (кстати, губы у него тоже были красивые, кажется, красивым в нем было все) и протолкнул в рот указательный и средний. Кондратий удивленно замычал, как будто не ожидал, Сергей погладил по голове и издевательски предложил: — Могу сходить за смазкой. Тут недалеко, я в соседнем дворе припарковался, подождешь? — и добавил вполне удовлетворенно, когда Кондратий панически замотал головой и от волнения прикусил ему подушечки: — Тогда не выпендривайся и оближи, не я это предложил.
После этого Кондратий действительно перестал выпендриваться, по крайней мере, в плане болтовни; полностью перестать выпендриваться было, вероятно, выше его сил, и он переключился на позерство другого рода — артистично прикрытые глаза и показательно втянутые щеки, у него был восхитительно горячий рот, который оказалось восхитительно приятно заткнуть. Пока Трубецкой растягивал его — этого было мало, но лучше, чем ничего — кусался и тихо матерился ему в плечо, но нетерпеливо дергался, стоило только замедлиться или остановиться. Они промучили друг друга еще несколько минут, прежде чем Трубецкой вытащил пальцы и пробормотал:
— Будем считать, я сделал все, что в моих силах…
— Хватит уже, — попросил Кондратий, и на этот раз в его словах не было претензии: он правда — просил, притом мягко и по его меркам практически вежливо, разве можно было ему отказать? Он все равно зашипел и еще раз красноречиво выругался Сергею на ухо, но быстро расслабился и подтолкнул пятками.
Именно тогда — ни секундой раньше, ни секундой позже — Трубецкой действительно сорвался. Все, что было до этого, еще поддавалось какому-то рациональному воздействию, что было после — не поддавалось уже ничему: ни его быстрые, рваные, резкие толчки, ни стоны Кондратия и его ногти, впивающиеся в лопатки, его острые зубы, кусающие в ответ — особенно яро именно в ответ, если Сергей позволял себе зацепить его шею. И особенно не поддавались ничему стоны, крики и цепляющиеся руки, то, как Кондратий выгнулся, когда Трубецкой прижал его запястья к полу и сжал член, двигая рукой так же быстро и резко, как двигался сам. Он кончил первым, крепко зажмурившись, сведя к переносице пушистые брови и выстанывая что-то неразборчивое в наспех начатый поцелуй, Сергея накрыло следом, практически сразу, оттого, как он сжался и как задрожал, и как притянул его ногами к себе, будто пытался продлить момент в бесконечности. В бесконечности, ясно, не вышло бы, но какое-то время они лежали молча и не шевелясь, пока совесть и банальная вежливость не заставили Трубецкого встать, чтобы не придавить разомлевшего Кондратия.
Сейчас, когда красная пелена рассеялась, а вместо желания появилось приятное, греющее душу довольство собой и жизнью, все прекрасное вызывало некоторые созидательные чувства помимо желания этим прекрасным обладать — Трубецкой принес камеру и посмотрел на лениво потягивающегося Кондратия с ласковой улыбкой:
— Можно? Только в личный архив. Если ты не против.
— Извращенец, — прошептал Кондратий и перевернулся набок, чтобы рубашка (точно извращенец, они так и не сняли рубашку) задралась, оголяя белое бедро с красными следами от пальцев, и вытянул покусанную шею. Все его смущение растворилось, как не бывало, и Сергей ни за что не сказал бы, что тот же самый человек два часа назад нервничал из-за необходимости раздеться на камеру. От этой мысли в животе снова заворочалось приятное горячее предощущение, но Трубецкой пресек его на корню самым простым и банальным способом — парой щелчков затвора.
— Ты очень красивый. — Он сел напротив Кондратия, положил камеру рядом на пол и протянул к нему обе руки. Кондратий схватился за них и с удовольствием нырнул в объятие. — Очень, Кондраш. Я бы хотел поснимать тебя еще.
— Надеюсь, это не предложение подписать контракт, а то как-то не хочется, знаешь, через постель, — фыркнул Кондратий, зарывшись носом ему в шею. Дыхание приятно грело. Его совсем не хотелось гнать от себя прочь и забивать оставшийся вечер работой. Скорее наоборот.
— Ни в коем случае. — Трубецкой, сам не вполне понимая, что делает, поцеловал его в макушку. — Это предложение провести остаток дня вместе. Ты когда-нибудь был на показе?
— Никогда.
— А хотел бы?
— Не думал, пока ты не спросил, — честно сказал Кондратий. — Не узнаешь, если не попробуешь. Почему нет. Я свободен.
— Значит, после хорошего обеда и неспешной прогулки приглашаю тебя сегодня вечером на показ к одному из ведущих дизайнеров современности. Не обещаю, что будет незабываемо весело, но незабываемо — точно. — Трубецкой помолчал и добавил: — Катя сказала, что наливать не будут, но что мешает нам пронести с собой?
Кондратий поднял голову и смерил его уже знакомым оценивающим прищуром. К счастью, в этот раз он не продержался и трех секунд, и Сергей записал за собой пока маленькую, но вполне однозначную победу.