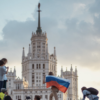Пэйринг и персонажи
Метки
Описание
Трубецкой возвращается в Петербург из Вены с пересадкой в Варшаве. Рылеев возвращается в Петербург из Берлина прямым поездом. И обоим этой ночью не спится.
Примечания
Отчасти вдохновлено заявкой с третьего тура кинк-феста (про соблазнение в набитом поезде), но совершенно в нее не вписывается.
Икра и шампанское, конечно, на совести Моры (не поймите меня неправильно: к этому тексту она не причастна, но я воздаю должное за любимый троп). Альтернативные двадцатые — на моей, тут без вариантов. Кстати, я планировала историчку, но, скажем прямо, даже не попыталась. Название — из одноименного романса, только у этой истории, конечно же, совсем другой финал.
///
24 ноября 2021, 10:22
В Варшаве стояли полчаса. Была глубокая ночь, к тому же, весьма холодная, звездная; вокзал крышей уходил в небеса и там терялся, и не с первого взгляда можно было разобрать, в каком месте крыша заканчивается и начинается свежая ноябрьская темнота. На станции в такое время ни души. Летом бы вывалились курить, покупать коньяк и пирожки, браниться за продутую партию в карты… Он этого не любил. И — был рад побродить по перрону в благородном одиночестве.
Паровоз еще пыхтел, остывая, похожий на мрачное чудище. Трубецкой курил. Носильщик молча катил тележку. Старый вокзальный служащий, вышколенный немецкий еврей, даже излишне любезный, он бы не упустил своего, но понял, что от него нужно, еще когда только выгружал чемоданы из экипажа. Растворился, будто его и не было, и открыл рот всего раз — когда встали напротив вагона:
— Die Sachen, Eure Exzellenz...
— Tragn’ die mal in den Wagen. Bitte.
Он ответил коротким поклоном и покатил тележку к открытой настежь красно-коричневой двери, которая в темноте казалась скорее иссиня-черной. Трубецкой оставался в стороне, глядя, как мелкий и проворный носильщик вместе с высоким статным проводником заносят в вагон его чемоданы. Смотрел, надо сказать, без чувств: усталость была так велика, что уже не хотелось ни разговаривать, ни читать, ни даже проспать до утра; вполне устраивало тянуть табак и ждать, пока горячность мыслей остынет на уличном холоде. Воздух здесь был еще не совсем как в Петербурге, но уже похож, или почти похож, и он практически перестал жалеть о том, что пришлось пересаживаться: даже с потерей дня так он окажется в Петербурге на сутки раньше, чем если бы стал дожидаться прямого экспресса.
— Fünf Minuten bis ‘em Abfahren, Eure Excellenz. Eure Sachen sind schon da.
Трубецкой достал из кармана часы и сверил время. Было без пяти два. Действительно… Он вытащил пару сложенных вдвое мелких купюр и дал на чай.
— Ich komm’ gleich. Danke.
Больше не обернулся. Из-за спины донеслось вполовину искреннее «Gute Reise». Трубецкой представил себе этого небольшого, везде успевающего человека темной фигурой на фоне серо-черного перрона, с блестящей железной тележкой под локтем, грустно усмехнулся в последний раз своим мыслям и проследовал за проводником.
В поезде было чисто и очень тихо. Половина купе первого класса пустовала, так сказали ему еще на станции в Вене, где он брал оба билета: маршруты Берлин — Петербург в такое время спросом не пользовались. Гораздо чаще раскупали билеты в обратном направлении. Трубецкой поблагодарил проводника и остался в купе один.
Пальто нашлось место на крючке у двери. Он прошелся вперед-назад, но так и не нашел себе места; снял пиджак, развязал галстук, зашел в ванную — сполоснул руки и лицо, долго смотрел в глаза своему отражению, но и в нем не нашел ничего, кроме смертельной усталости, слабой тени довольства минувшей поездкой и необъятной скуки. То, что происходило… было хорошо и правильно. То, ради чего это все — они все — вот уже пять... Нет — не пять, конечно, не пять, больше… Намного больше. Он был, очевидно, счастлив, такое счастье дается не каждому, не всегда. И великий дар — быть к нему причастным. Но все-таки иногда в сердце поселялась такая страшная, безжалостная тоска, что ни объяснить, ни изгнать ее привычными средствами было уже не под силу. Вдали от дома это случалось с ним даже чаще обычного.
Было около половины третьего ночи, когда Трубецкой оставил свое купе и без особенной цели побрел в вагон-ресторан. Все вокруг спали, и он был уверен, что окажется единственным или почти единственным посетителем. Мог бы даже толком не одеваться, никому не было дела, никто даже не узнает его в лицо, если, но в пиджаке удобно нести портмоне, портсигар и ключ, а его единственным замыслом было выпить чего-то крепкого, выкурить одну-две и просидеть, безразлично глядя в окно, пока глаза не станут слипаться и сон не сморит его совсем. А проснуться… проснуться уже в Петербурге. Это было бы хорошо.
В вагоне-ресторане пахло вином и цветами. Горели две миниатюрные хрустальные люстры и по круглой свече на каждом столе. Сами столы пустовали — все, кроме одного: в любой другой ситуации, да пожалуй, в любой другой день именно в такой ситуации Трубецкой постарался бы отсесть как можно дальше. Он и сейчас не до конца понимал, чем руководствуется, но сделал это раньше, чем осознал:
— Вы не возражаете?
Незнакомец оторвал взгляд от окна и безразлично посмотрел на него снизу вверх. Потребовалось несколько секунд, чтобы безразличие в его глазах сменилось чем-то, трудно сказать, чем именно, но он дернул уголком рта и сказал:
— Не возражаю.
Трубецкой сел напротив. В отличие от него случайный попутчик не обременял себя условностями приличий даже ради того, чтобы положить в карман портсигар: на нем была белая сорочка в тонкую серую полоску, несуразно большая, будто с чужого плеча (или Трубецкой в суматохе государственных дел снова не уследил за модой), из завернутых рукавов торчали костлявые кисти рук, тоже белых. Белая фарфоровая чашка на столе. Черный кофе в ней и глаза у него — практически черные. Подошел кельнер в форменном пиджаке.
— Champagne, bitte. Noch einen Kaffee. — Трубецкой посмотрел на чашку, наполовину опустевшую, и поправился: — Zweimal. Zweimal Kaffee. Kaviar und Butter.
— Wird erledigt, mein’ Herrn.
Оба проводили официанта взглядом. Потом взгляды встретились, и на этот раз на него посмотрели со здоровой усмешкой, по-доброму испытующе:
— Kaviar und Champagne, мхм… Не слишком ли щедро для первой встречи?
— Вы так красивы, что ограничиться меньшим было бы преступлением, а я так устал, что не могу думать о том, насколько… уместны подобные проявления. Считайте это щедростью человека, который слишком истосковался.
— Вашу прямолинейность вполне можно счесть вульгарной.
— Но это правда. А я не поэт, мне не дано выражаться тоньше.
— Вам и не нужно. — Он откинулся на спинку своего кресла и наконец удостоил Трубецкого искренней улыбки во весь белозубый рот: — Какая удача для вас. Вы мне нравитесь.
Еле слышно перебирая маленькими колесиками, к столу подкатила тележка, с которой рука в белой перчатке поочередно сняла два хрустальных бокала, две чашки на блюдечках, сахарницу и фарфоровые тарелки. В центре встало блюдо со свежим хлебом, масленка и вазочка с икрой. Шампанское подавали в ведерке со льдом, при виде которого его спутник, хотя и покачал головой, на деле заметно обрадовался; пробка вышла с негромким залпом, и в бокалы ударило холодное, сверкающе-золотое. Трубецкой взял свой:
— За вас.
— Как скажете. — Они обменялись кивком и хрустальным звоном. Трубецкой рассматривал его, не таясь, а он позволял рассматривать и вместе с тем — позволял думать, что пристальное внимание ему приятно. Может быть, так и было. Он отрезал кусочек масла мягким, плавным движением, ни толики суеты, так режут чужие сердца, не боясь причинить боль, ибо знают, что боль, причиненная ими, приятней счастья. Облизнул губы и тихо поинтересовался, макая ложечку в икру: — А вы… зачем здесь?
— Собирался выпить и спать. А теперь… очевидно, затем же, зачем и вы.
Трубецкой медленно вдохнул через нос. Ударило, вот так вдруг, не только в голову, но и вниз живота — заворочалось внутри жарким теплом, скручиваясь в тугой узел. У незнакомого юноши было красивое белое горло. Он почти видел свои руки на этом горле — и обхватывающими это очаровательное лицо, тянущими медно-медовые кудри. Почти видел, как он открывает рот, чтобы впустить в жаркое и тесное нутро — горячую твердую плоть, и тут же, после — облизывает, как сейчас, бесстыжие розовые губы, урвав секунду, чтобы вдохнуть. Юноша пригубил шампанского:
— По краю ходите… — он прищурился и предположил: — граф?
— Князь, — бесхитростно поправил Трубецкой. Это было в той же степени трогательно, в коей и волновало — не только душу. — Немного не угадали.
— Прошу простить. — Он поставил бокал и перегнулся через стол, чтобы вкрадчиво предложить: — Я готов искупить вину. Покаяться, если угодно. Вы читали Канта, князь?
— К бессмертию души клоните? — Трубецкой усмехнулся. Читал он Канта, как же. Freiheit, Unsterblichkeit der Seele und Gott… Почему-то это было смешно. С ним заигрывали, проверяя на знание классической философии, притом заигрывали опасно, рискованно. — О бессмертии души расскажете мне завтра утром. Сейчас, кажется… не слишком располагает.
— Утром! — он вскинул брови. — Вы не только вульгарны, вы еще и самонадеянны.
— А вы слишком азартны, mein Schatz. Ich nehme nur, was zu nehmen ist. Стоило подумать раньше.
Трубецкой так и не понял, было его секундное стремление отшатнуться назад последней разумной мыслью, последней попыткой удержаться на краю, или тщательно продуманным тактическим ходом. Да и неважно это было, если начистоту: он почти не сопротивлялся, разве что оскалился в поцелуй, но ответил так жадно, что сомнений не было — предлагал. Das zu nehmen, was zu nehmen ist. Трубецкому хватило бы воспитания удержать себя в руках, если бы чужое желание, не им одним затеянная опасная игра не были столь очевидными и притягательными. В поездке у него совсем не было времени задуматься о том, чтобы дать волю самому простому и понятному чувству, найти кого-то столь же свободного, распущенного — по чьим-то чужим меркам, конечно, которые давно были не указ, и… А еще ему давно так охотно не отвечали. Может быть, никогда не отвечали так. Или дело было не в этом?
— Кажется… мне больше не в чем каяться, — он рвано выдохнул и упал обратно в кресло. — Вы…
— Да, — сказал Трубецкой, — я должен вам кофе. Вы очаровательны. Kellner! Champagne, all’ dies’ — auch zwei Kaffees noch. Nummer 10. In einer Stunde, bitte. Nehmen Sie.
Кельнер молча кивнул. Купюра перешла из рук в руки. Трубецкой пропустил его вперед — в той же степени из галантности, в какой ради того, чтобы посмотреть и с удовольствием засмотреться; оба не оборачивались, номер купе он не расслышать не мог. Трубецкой любил такие моменты. Любил их тонкий нерв и пьянящую вседозволенность. Последний, не до конца разрешенный вопрос: «Я правильно тебя понял?» Почему-то сомнений не было: если бы понял неправильно, непременно получил бы по рукам. Потому что у юноши были очень острые зубы и совершенно точно была гордость — о, сколько там было гордости, его можно было бы с тем же успехом пригласить в Зимний, и он бы вот так, в неглиже и без сопровождения, не уронил достоинства. Это… завораживало, по меньшей мере. И будило в Трубецком какие-то странные, дикие, трудно сдерживаемые чувства, которые наперед диктовали каждый шаг.
...Вот он останавливается у двери десятого купе, несколько секунд смотрит на номерную табличку над дверью. Вот резко и глубоко вдыхает, когда Трубецкой встает за ним, чтобы повернуть в замке ключ. Делает шаг. Тянется нашарить рукой выключатель, но не успевает: Трубецкой закрывает за ними дверь, и желтая полоса на полу исчезает, превращая купе в магическое пространство темноты и лунного света. Изящно ведет плечом под скольжением пальцев от запястья вверх...
На этот раз он поцеловал Трубецкого сам, первый: развернулся и кинулся на шею, как кидаются на вокзальной станции — или в объятия с разлуки, или сразу под поезд; Трубецкой только успел раскрыть руки, чтобы вовремя подхватить это дышащее жизнью, смелостью и желанием существо. Жизни, смелости и желания в нем было так много и они были так сильны, что невольно усиливались в поцелуе: он нырял, и выныривал, и снова нырял в это чувство, самозабвенно и поэтично, откровенно и притом безо всякой пошлости, словно не целовался, а читал поэму. И даже тот стон, который Трубецкой проглотил вместе с его дыханием, проглотил жадно и отчаянно, низменным не был.
Он остервенело стащил с Трубецкого пиджак, бросил им под ноги, знал, что не возразят, должно быть, ему — никогда в жизни не возражали. Не привык. Не собирался к этому привыкать. Себя позволил раздеть практически благосклонно: Трубецкой чувствовал себя так, будто к нему проявили особую милость, но был слишком взволнован, чтобы размениваться на препирания. От воротничка его несуразной рубашки (господи, эта рубашка, откуда он ее все-таки...) тянуло парфюмом, а из-под парфюма пробивались чистые, кружащие голову собственные запахи тела, запах хорошего мыла и того самого кофе, от которого Трубецкой его столь бестактным образом оторвал. Пуговицы поддавались нехотя, хотелось даже — он не позволил себе, но хотелось — дернуть и слышать, как они рассыпаются по полу, и стук дробью наслаивается на стук колес. Под рубашкой на нем не было ничего, но то самое белое горло заканчивалось очаровательной впадинкой и разлетом хрупких ключиц, такая же белая грудь, розовые соски — как губы, боже правый, а такие же розовые у него были губы, он весь был какой-то очень хорошо сочетающийся и гармонично сложенный, — красивый худой живот, ребра, которые Трубецкой мог бы — если бы позволяло время и ситуация их странного знакомства — пересчитать губами… Меж тем само знакомство между ними так и не состоялось, но до боли не хотелось испортить им чарующее ощущение полной и всепрощающей свободы.
Он отпрянул так же резко, как до этого кинулся за поцелуем. Теперь Трубецкой неотрывно смотрел на его приоткрытые губы, он — между полами расстегнутой наполовину рубашки, и его зачарованный взгляд льстил лучше любого, самого изысканного комплимента; страшно хотелось нравиться ему, произвести впечатление сильнее, чем кто бы то ни было, с кем он позволял себе подобное — раньше. Молчание продлилось недолго, пару секунд. По нему успела скользнуть высвеченная луной тень то ли дерева, то ли фонарного столба, на миг сделав его фигуру полностью темной. Трубецкому хватило этого мига, чтобы сбросить рубашку с плеч. Его визави проследил движение с жадностью, с таким пламенным азартом, словно от этого зависела его жизнь. Разом сделалось так хорошо, что едва ли не дурно, и в голове все затмило красным маревом.
— Сделайте что-нибудь, черт возьми, — прошептал он на грани отчаяния, резко подался вперед и оставшийся конец фразы почти простонал Трубецкому в губы: — Я умру, если не получу вас здесь и сейчас, но ведь вы не хотите моей смерти, а значит — поверьте, я не привык просить, но вас… вас буду умолять, если вы так скажете.
Тогда Трубецкой подумал, что и впрямь раздевался непозволительно долго. Ему поддались радостно и охотно, позволили подвести себя к кровати, подхватить под бедра и усадить на колени. Кровать, застеленная выглаженным белым, стояла одной длинной стороной к стене, а другой — к окну; это подарило Трубецкому чарующий вид на тонкий силуэт, объятый со всех сторон лунным светом, и на ореол кудрей над светлым лицом с горящими черными глазами.
— Вы прекрасны, — прошептал он в каком-то отупляющем восхищенном запале, припав губами к плечу, — вы не представляете… совершенно не представляете, как вы прекрасны. Потому как никакое зеркало не способно отразить вашей красоты.
Он стал целовать от плеча вниз, прихватил губами сосок, с трудом оторвался — прихватил второй, не выдержал, сжал на пробу зубами… Сверху дыхание стало рваным и вовсе сменилось на тихие скулящие стоны, Трубецкой стиснул в объятиях его талию, ненадолго — тут же пропустил ладони под брюки и сжал уже там. На нем не было белья. Брюки прилегали к теплой, гладкой, нежной коже, Трубецкой сложил два и два — это и запах мыла на шее — и шампанское, которое вот уже практически выветрилось, снова ударило в голову. Впрочем, стоило ли вообще удивляться? Что еще делать красивому, молодому, уверенному в себе юноше в таком виде посреди вагона-ресторана в полном одиночестве в столь позднее время… Нет, об этом сейчас думать точно не следовало. Не затем они оба сюда пришли.
Трубецкой приподнял его над собой, чтобы приспустить с него брюки. Этому немного мешали руки, беспорядочно оглаживающие его тело, где только получалось дотянуться, губы, лезущие за ухом и вдоль шеи, острые маленькие зубы, яростно впивающиеся в плечо.
— Имейте терпение, — тихо пожурил Трубецкой, заставляя его отстраниться от себя и тут же в извинении целуя надутые губы. — По-вашему, мне необязательно снимать штаны?
— Уж будьте добры, — обиженно буркнул он и больше не спорил. Его возобновившаяся покладистость позволила Трубецкому спустить и свои брюки, снова усадить его на колени и долго целовать, наслаждаясь соприкосновением кожи с кожей; он затем облизал ладонь и стал двигать ею по члену, то медленно, но намеренно ускоряясь, так что недавние претензии снова перешли в стоны, а стоны — во всхлипы. Трубецкой засмотрелся на его эстетически совершенное удовольствие, так увлекся изломом бровей и вздымающейся от глубокого дыхания грудью, что упустил момент, когда он завел руку за спину и стал, медленно покачивая бедрами, насаживаться на собственные пальцы. Когда же заметил — едва не потерял последнее самообладание: он не припомнил никого, кто наслаждался бы случайной близостью и взаимным удовольствием так неприкрыто и бесстрашно, как этот. Трубецкой придержал его за напряженные, подрагивающие бедра, дал уронить голову лбом себе на плечо, поцеловал висок; это позволило ему наконец расслабиться и, прихватив Трубецкого зубами за ухо, прошептать: — Я хочу… Вас — пожалуйста… Вы же не станете меня мучить?
— Поверьте, для меня это столь же мучительно, сколь для вас.
Трубецкой не был жесток, чтобы сильнее изводить его, без того изведенного нетерпением и желанием, а он оказался достаточно благодарным, чтобы в ответ не изводить Трубецкого. И — тесным, жарким, так правильно сжимающимся на члене горячим нутром, что от его жара и узости перед глазами посыпались звезды. Трубецкой заглушил рычащий стон, прижавшись поцелуем к белому в россыпи его укусов плечу; он застонал тоже и, вцепившись Трубецкому в плечи, начал медленно подниматься и опускаться, гибкий и стройный, весь — сгусток пылающих эмоций и страсти. Трубецкой перестал зацеловывать его плечи и шею, только чтобы наконец увидеть его целиком и очароваться заново — ритмичными, но плавными движениями, запрокинутой кудрявой головой, тем, как он бессознательно пытался толкнуться Трубецкому в руку и притом — не забывать опускаться до конца, пока кожа со шлепком не соприкоснется с кожей.
Наконец он выпрямился, замедляясь, накрыл ладонь Трубецкого, ласкающую его, своей, наклонился и прошептал в губы:
— Я знаю, как вы хотите… Не отказывайте себе. Ну же.
Видит бог, не было вины Трубецкого в том, что эти слова перечеркнули в нем последние здравые мысли и рассуждения. И не было его вины в том, как яростно он впился пальцами в нежные белые бедра и стал поднимать и снова опускать, поднимать и опускать на себя ставшее таким податливым тело, быстрее, еще быстрее, крепко жмурясь и выдавая на повторе один за другим короткие низкие стоны, которым его любовник вторил протяжно и едва ли не мелодично — кто он все-таки был, музыкант, поэт? почему удавалось ему — так легко и непосредственно, словно в этом и состояло его истинное предназначение? Наконец Трубецкой почувствовал, что не протянет так дольше, и с особым рвением опустил его вниз, сжал его, разгоряченного, в крепких объятиях, обернул ладонь поверх его, почти уже обессиленной… Излился в подрагивающее в экстазе тело почти одновременно с тем, как семя брызнуло на руки и на животы; не отпуская друг друга и практически не шевелясь, они сидели еще какое-то время, окутанные полным единением, тишиной и звуками восстанавливающегося дыхания. Затем Трубецкой наугад нашел его губы и целовал, пока оба не пришли в себя окончательно, после обтер руку о край простыни и только тогда разрешил себе сделать то, что сделать очень хотелось — отвести в сторону шальную прядь, пересекающую высокий лоб. За этим последовала нежная, немного удивленная улыбка. Его любовник заговорил первым:
— Надеюсь, вы не ожидаете лекцию о бессмертии души прямо сейчас. Князь.
— Я же сказал: завтра утром, — беззлобно отмахнулся Трубецкой. — Сейчас есть куда более насущные вопросы. Wie heißen Sie, mein Schatz?
Этот вопрос произвел на его любовника самое сильное впечатление: он очаровательно-неловко уставился на Трубецкого, словно тот спросил не об имени, а о чем-то из области высокой физики, но, совладав с эмоцией, бойко и ровно доложил:
— Рылеев, Кондратий Федорович. У меня колонка в газете, вы вряд ли читали, впрочем… А с кем, собственно, имею честь…
Возможно, он собирался сказать что-то еще. По крайней мере, такое выражение застыло на его красивом лице, когда Трубецкой перебил его в высшей мере невоспитанно — засмеявшись. Рылеев, Кондратий Федорович, посмотрел в ответ строго и даже сурово, и только под таким его взглядом с горем пополам удалось взять себя в руки и представиться:
— Трубецкой. Сергей Петрович. К вашим услугам... как бы это сказать помягче…
На миг воцарилась тишина. Лицо Рылеева вытянулось, и с него вмиг испарились всяческие суровость с весельем.
— Я знаю, — выдавил он пораженно. — Или вы держите меня за такого дурака, который за месяц в Берлинском университете позабывал имена сенаторов, или...
— Вы меня не узнали, — в оправдание вздохнул Трубецкой.
— Было темно. К тому же я, предположим, не привык, что ко мне вот так… Что каждый мой новый знакомый оказывается служащим, да еще и такого высокого ранга.
— Позвольте счесть за комплимент.
— Газеты преуменьшают ваши достоинства, господин сенатор. Во многих отношениях.
Трубецкой почувствовал, как за ушами стало жарко от неожиданного смущения. Даже теперь Рылеев не растерял своей первоначальной уверенности — и парой слов умудрился вогнать его в краску, сохранив совершенно спокойный вид. Какое уж тут бессмертие души, в самом деле. Трубецкой поцеловал ловко подставленную щеку и пробормотал:
— Не обо всем же писать в газетах.
Трезвость мысли постепенно возвращалась к нему. Рылеев отказался от благородно предложенной ванной, предпочтя ей возможность сразу вытянуться под простыней; Трубецкой еще некоторое время любовался его фигурой, прикрытой белым и то и дело расцвечиваемой игрой теней из окна, прежде чем позволил себе умыться и сменить одежду. Вода смыла с него остатки болезненной усталости, и то чувство, которое пришло ей на смену, было усталостью исключительно телесного свойства — а потому естественной и приятной всякому человеку.
Он уже собирался было лечь в постель и заснуть таким же блаженным сном, когда раздался вежливый стук в дверь. Трубецкой выглянул в проход и увидел сначала тележку, а за ней — кельнера, прислуживавшего в ресторане. Икра и шампанское… хлеб… и кофе. Ну разумеется. Прошел, должно быть, ровно час с тех пор, как они ушли, ровно час, отмеренный по идеально точным германским часам. Он впустил кельнера и дождался, пока тот переставит утварь на круглый столик у кресел. Это заняло в целом не более трех минут; на выходе Трубецкой поблагодарил его и оставил еще на чай. Затем коротко обернулся — кровать отгораживала от пространства прихожей резная ширма, отчего на душе делалось необъяснимо спокойно, но подумать об этом сейчас совершенно не было сил — и заказал завтрак.
В купе воцарилась тишина. Рылеев крепко спал, раскинувшись на половину кровати, обнаженный и не пахнущий больше ни парфюмом, ни мылом; в его изменившемся запахе гораздо больше было теперь не его, а чужого, и Трубецкой поддался желанию поцеловать плечо и повести носом вдоль шеи, вызвав тем самым недовольное шевеление. Рылеев тихонько засопел, и он прошептал, поддаваясь нахлынувшей нежности:
— Спи… спи, mein Schatz. Все это завтра. Спи.
Сопение стихло, и Рылеев вновь провалился в глубокий сон, без труда укладываясь под его руку, будто они спали вместе не первый, не второй, даже не пятый раз. Все в мире, говорил великий философ, все в мире подчинено единому вечному закону, в котором сосуществуют и сплетаются воедино свобода, бессмертие души и та сила, что после смерти отправляет правосудие. Жизнь под влиянием этого постулата сама собой толкает тебя на подвиги и на свершения во имя любви — любви, для которой вовсе не требуется ни взаимность, ни осязаемость личной выгоды… Бескорыстной, всепоглощающей любви. Она может быть к близкому или к другу, к матери, к брату или к ребенку. К любовнику. К любимому делу. Или — к Родине. А может ли в жизни случиться две любви сразу? Этого Трубецкой не знал. И не был философом, чтобы давать на такие непростые вопросы — однозначные и односложные ответы. Но засыпая наконец без изнурительного чувства смертельной усталости, с умиротворением в душе и покоем в сердце, он точно знал одно: в отличие от любого другого существования, несмотря на все перипетии и всякую неопределенность, такая жизнь по крайней мере имеет смысл.