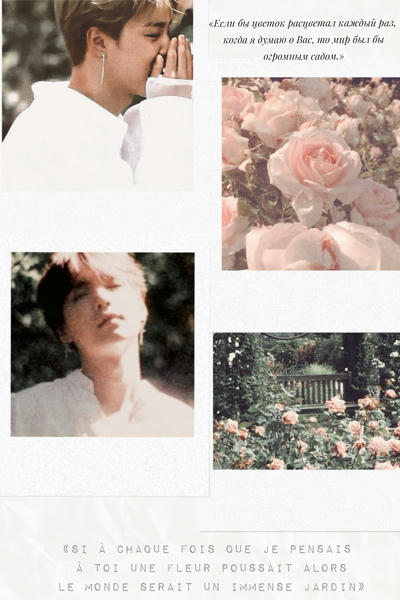
Пэйринг и персонажи
Метки
Описание
Париж, девятнадцатый век. Французская революция и эпоха Просвещения. Стремление к идеалу и сплошная романтика. Юнги нашёл в нём свое вдохновение и кое-что большее, по крупицам высекая его скульптуру и потеряв голову. Чимин же воспитан высшим сословием и ему не разрешено ничего, особенно любить.
Примечания
* Цветок
Надеюсь, что получится неплохо. Мне очень понравилась заявка, и вот я решила написать по ней.
Заявка достаточно сильно изменена, так как это моё видение.
XIX-ый век используется для атмосферы, здесь упомянуты некоторые исторические события, но лишь для поддержания того самого настроения, они не идут нога в ногу с реальными годами. Мне важно показать то, о чем думали люди в те времена, ведь это на самом деле прекрасно...
Плэйлист к работе:
https://youtube.com/playlist?list=PL8lyCVsmwPfeeTSexsX2KaIC8KFAwAOEO
(15.06.2021)
Посвящение
AU, где Юнги является скульптором, а Чимин — его натурщик и прекрасная муза.
Обложка:
1 https://pin.it/200Xkwn
2 https://pin.it/6Z2c3Fe
3 https://pin.it/5PaFmOX
Эстетика Юнги (dark aesthetic):
https://pin.it/78k2pJV
Эстетика Чимина (dark aesthetic):
https://pin.it/3RbNku6
(light aesthetic):
https://pin.it/Yl6KZHm
Трейлер к фанфику:
https://youtu.be/P7MD5GZmikA
𝓟𝓪𝓻𝓽𝓲𝓮 22
15 июня 2024, 10:00
Сердце скульптора больше не бьётся. Целых семь дней он прожил в безмолвии, исхудав и приобретя болезненный оттенок кожи, отнюдь не заметив того даже на малую часть. Мужчина не думал о том, как выглядит, потеряв ощущение собственных рук и ног. Словно всё его тело отныне ему не принадлежало и не желало выполнять то, о чём судорожно шептал их хозяин, прося не застывать окончательно. Этой ночью он заснул на паркетном полу, что приветствовал его отнюдь не теплом, но леденящим каждую юнгиеву клеточку холодом. Босые вытянутые ступни, покрытые синими венами, выглядели почти прозрачными. Казалось неосуществимым — ступать ими по паркетному полу, на миг размявшись и отойдя от бездвижия, кое завладело всем вокруг. Сумевший чудесным образом удержать в руках бутылку вина — того осталось лишь малость — и не проливший алой микстуры ни капли даже во сне, Мин, едва успев пробудиться, льёт в горло сей напиток и закрывает глаза. Пересохшее горло смачивается красной рекой, что с собой приносит некое временное успокоение.
Страшно то состояние, пережить которое без хмеля не удаётся. Он дарит забвение, залечивает раны, но лишь на время. Не на часы, на секунды… Глотая, скульптор способен отвлечься, чтобы вновь осознать в самый ближайший миг. И так по кругу, закрутившись в быстром течении, что сносит с ног и несёт за собой.
Ему плохо в самом глубоком смысле сего изречения. Его бессмысленное существование не несёт в себе ничего совершенно. То лишь губит сильнее, если такое возможно, и близит кончину с каждым прожитым в сиих муках днём. Ведь ни угощение ему не мило, ни сам белый свет и ни жизнь людская. И нет его душе успокоения, нет и смирения с тем, чему случиться уже пришлось. Погаснув душой и изгоревавшись по своему незаменимому никем свету, однако всё же вспомнив о том, как было ещё не так давно, слёзы вновь накрывают его глаза. А истина как таковая кроется в том, что нет ни секунды, чтобы скульптор не думал о прошлом и о юноше своём не вспоминал. Даже в те мгновения, когда бледных губ касается пунцовое вино, забыть его невозможно. И в тот миг, когда мышцы горла, пока мужчина глотает всю сию горечь, сжимаются, чтобы повторить это в десятый, нет, в сотый раз на сегодня, не хранится в голове ни одной мысли, кроме него. Утончённого, чуткого, совершенного…
Быть может, он отвлечётся на миг, отведёт взгляд от мраморной скульптуры, позже вернётся к ней снова с озонанием более сильным и до острой, невыносимой по человеческим меркам боли слегка туманно увидит его светлый образ перед собой. И о том, как любит, и о том, как скучает, шептать больше некому. Те слова лишь застрянут в горле и задушат, не позволив те даже тихо, однако произнести. Они останутся с ним навсегда, грудной тяжестью напоминая о том, что сделать мужчина, увы, не успел. Он не успел его поцеловать. Целомудренно, затаив дыхание, передать ему свою сладостную, до боли красивую нежность.
К несчастью, всё это — то, как быть могло бы, увы, не будет уже никогда. И винить в сем хотелось бы вокруг каждого, но больше всех — себя самого, потому как не уберёг, не остановил и не спрятал от целого мира, чего бы ему это ни стоило — быть может, даже ценой своей жизни. Юнги себя мучает, изводит безжалостно, всё представляя, что было бы, если бы Чимин остался с ним. Несомненно, счастливее Мина человека было бы не сыскать, однако, оглядевшись вокруг, скульптор осознаёт всю горечь собственного бытия, ощущая вкус сей на языке и пытаясь мириться с той — со своим приговором. Мужчина корит себя сильно, виноватым во всём считает, и это не приносит ни малейшего облегчения, напротив, убивает его из глубины.
Он осознанно заперся в мастерской изнутри и слышал, как к нему стучатся, однако мужчина не мог встать и открыть неподъёмную дверь… В той же самой степени не желал этого делать. Его способность — то же, что воля. И та, и другая, обе они более невыполнимы, нежели несущественны. Скульптор предпочитает оставаться один, находиться в собственном мире и существовать особенным распорядком дня: он открывает глаза, будучи пьяным, глотает вино целый день, таким же и засыпает. Иначе не может. Ему столь тяжело дышать без Чимина и просыпаться с осознанием невозможности его увидеть…
И снова в дверь раздаётся стук. Казалось бы, уже столь знакомый и до сих пор волнующий, и по старой памяти хочется подойти и открыть дверь, чтобы впустить единственного гостя, однако не будет там того, кого Мин мечтает увидеть. Ранее, на протяжении всей сознательной жизни, Юнги хранил свою сокровенную тайну — скульптуры, никому, кроме Чимина, не позволяя на те взглянуть. Мужчина прикрывает глаза обречённо, смиренно. Быть может, это за ним пришли? Старушка в чёрном с руками костлявыми, что те самые руки протянет близко к нему по его душу. А может и нет никакого стука, а он, наглотавшись страданиями словно пресной водой, потерял свой рассудок.
Слышно, как впервые за долгие дни в двери поворачивается ключ. Юнги открывает глаза, лицезрея перед собой Намджуна. Сердце уходит в пятки. Неясно, что скульптор чувствует: страх, злость или же горечь, слезами вновь подкатывающую к его усталым глазам.
— Я боялся увидеть тебя без чувств и прощупывающегося пульса, — полушепчет друг, стоя у порога. И почему его голос в сей пустоши кажется столь чужим? — Я лишь проверить, что с тобой стало. Позволишь?
Юнги безмолвен. Он приоткрывает рот, только из того не выходит ни звука. Быть может, мужчина утратил свою способность к лирическим разговорам о жизни, а может — к разговорам любым. И ныне Мин не в состоянии произнести простого «Здравствуй».
Намджуну не позволили, однако он проходит дальше, вглубь мастерской, и смотрит по сторонам, словно видит всё это впервые. Юнги же закусывает дрожащие от обиды губы. В его душу вторглись без разрешения, а теперь вовсю в ней хозяйничают.
В сей роковой день, когда мужчина услышал страшные новости, он сразу вернулся домой из Гавра. И не было в его мастерской привычного уклада, что покинул и его жизнь в том числе. Отныне всё вокруг не так, как должно быть. Нет смысла ни в чём, из того, что его окружает. Обнажённая же донельзя душа мужчины и впрямь такова: его творения лицезрел Намджун, хоть и друг, отнюдь не тот, кому Мин смог бы открыться. И ему больно. Навязчивые мысли о неправильности происходящего всё шепчут и шепчут, напоминая о себе. Пусть то было ненарочно, и сделано не со зла, Юнги не может это принять. То был кусочек его души, тайное место, где прятались сам он, Чимин и скульптуры. И в сей миг художник стоит перед ним, в его мастерской, где был и в тот день, когда в скульпторе что-то умерло. И тот наверняка надеялся, что друг его жив, однако показаться на свет не может. И понимал, что на то есть причина, кою словами не описать. Быть может, этим Намджун твердит ласково: я здесь, я рядом, что бы ни произошло. И, спустя пару минут, уходит прочь, оставив Юнги одного, чтобы тот пережил сам для начала, а после, если на то хватит сил, поделился своей болью с ним.
Услышав стук двери, Мин закрывает лицо собственными ладонями и утопает в них. Создаёт себе темноту, пугаясь её и не понимая, что же со всем этим делать. Намджун — мужчина донельзя понимающий и Юнги столь сильно за это ему благодарен, но он отнюдь не может смириться, что жизнь его отныне — настоящий проходной двор и что идиллического единения с болью своей ему боле не добиться.
Скульптор дней не считал, однако то время казалось ему нескончаемой вечностью. И, быть может, он погружался на самое дно глубинного океана, отнюдь с каждой мыслью, возникшей в его голове, его было труднее отыскать в темноте непроглядных вод и вытащить на поверхность.
И выплакать слёзы до поры, пока те вовсе не опустошат его сердце, сделав каменным, не удастся. За ним мягко приглядывают. Намджун навещает его раз за разом. Если бы Юнги мог чувствовать время, то сказал бы, как часто это происходило. Увы, он не ведал, приходил ли друг в мастерскую единожды в день или, быть может, несколько раз на дню. Художник пытался говорить с ним, он отнюдь не мог понять, отчего внутри у скульптора столь сильно болит.
Спустя долгую пелену времени, Юнги больше не дрожит телом и не плачет. Быть может, тёплое лето успело уже закончиться, уступив поре дождливой осени. Мин на улицу не выходит, он, словно будучи в туманной дымке, не осознаёт, как прожил несколько месяцев. И сейчас ему чуточку легче. Он смиренно молчит, сидя напротив скульптуры в мантии, моргая лишь изредка. В голове нет ни мысли, там ничего, но в своём истерзывающем душу горе мужчина не может остаться один. Его друг всё ещё здесь, всё ещё смотрит, как ломается некогда чувственный любящий скульптор, будучи более хрупким, нежели мрамор.
— Юнги… — шепчет Намджун пугающе тихо, прерывая столь сокровенное безумие старшего. Не молвив ни звука, Мин не отрывается от скульптуры. — Что там? — столь бережно, словно боясь разбить мужчину, спрашивает Ким. Он всё не оставляет попыток узнать, что же случилось с его милым другом. Тот не молвил ни слова о причине сего плачевного состояния. Художник думает, что скульптор тяжело болен, и отнюдь не может лицезреть его медленную смерть.
— Et rose elle a vécu ce que vivent les roses lʼespace dʼun matinʼ.… — шепчет Юнги словно в полубреду. Он замолкает и смотрит куда-то вдаль, будучи не в силах продолжить и рассказать, кому же он посвятил сии трагичные строки столь известной, однако давно позабытой поэмы. Намджун замирает, впервые за целых три месяца услышав голос Мина, успевший уже позабыть, как тот звучит вслух. — Я потерял его, — отвечает мужчина донельзя хриплым от долгого молчания голосом. — В этот раз навсегда…
— О ком ты говоришь? Кого ты потерял? Где был те два месяца, ответь, умоляю… — тон художника столь обеспокоенный, будто он не мог ни есть и не спать, переживая о скульпторе.
— Я жил в Гавре, — отвечает Мин спустя время. На Намджуна тот не обранил ни взгляда, всё внимание его как есть подарено неживому предмету из мрамора. — Продавал цветы. Его увезли в Новый свет…
Художник хмурится, быть может, не понимая ничего. Сии слова бесспорно похожи на несвязный, сумасшедший бред. Вероятно, Намджуну казалось, будто некая осознанность вновь стала проявляться в глазах Юнги, однако он ошибся. И всё же художник молчит учтиво, наверняка стараясь вникнуть в сии тайные послания. О чём они поведуют?
Сложно ответить, всему ли виной долгое молчание или же Мин и впрямь вернулся к жизни, однако он вдруг начинает говорить. Столь долго, что кажется, остановить его боле не удастся:
— Мой юноша — самый что ни на есть святой. Он погибал в мучении, не заслужив и части того, что, я боюсь себе даже представить, вынес. Или не вынес. Быть может, скорая кончина являлась бы последним ему даром Господа. На это смею я надеяться, тем лучше страшных мук и боли. Если представлю себе его глаза в последнюю минуту, пока билось его сердце… Нет пытки страшнее. Мне жить не хочется лишь от одного образа его смиренного со смертью взгляда. Был бы на его месте я, Господь… Забрал бы, милостливый, меня вместо него… — вопль на всю мастерскую. Скульптор закрывает рот дрожащими руками и вновь в рыданьях утопает.
Художник медленно тянет воздух носом, стараясь унять внутреннюю дрожь. Ему страшно. Ему кажется, словно Юнги лишился своего рассудка. О каком юноше он твердит и почему называет того своим?
— Как я могу помочь? — шепчет Намджун, не понимая, к чему сию помощь необходимо применить и какая причина её необходимости. — Что сделать, чтобы стало хоть немного легче?
И снова тихое молчание, сопровождающееся лишь едва различимым скулением. Художник зовёт старшего по имени, ответа же от него отнюдь не слышит.
Намджун наблюдал своими глазами, как постепенно его друг увядает. Юнги почти не притрагивался к еде и целыми днями смотрел на скульптуру или же в окно, едва ли отзываясь на собственное имя. Художнику было жаль его, а боль скульптора казалась ему невыносимой. Он не мог представить, как оно было внутри, ведь Мин снова молчал. Своим горем делиться тот не желал, чем делал себе лишь хуже, и близкому ему человеку столь тяжело было наблюдать за этим.
Словно неживой, Юнги всё ходил по мастерской, курил сигары почти непрерывно и пил вино, чтобы забыться. Одно было ясно: мужчина потерял кого-то очень важного для себя. Некого юношу, которого тот по-своему любил. И сия потеря казалось неописуемой, неизмеримой по значимости своей, ведь являлась настоящим концом всего сразу: вдохновению, их со скульптором дружбе и самому мужчине. Художник не мог себе даже представить, как помочь Юнги унять сию боль, хотя бы малую её часть. Намджун размышлял о том, как с ним заговорить, начав издалека; ему казалось, сию отчаянию не было края, однако решил хоть и осторожно, но всё же спросить, кем натурщик являлся в жизни скульптора.
— Всем, — выдыхает Юнги, держа сигару в руке и стоя возле окна, будто бы ожидая кого-то. — Он являлся для меня всем, быть может, даже большим.
В те редкие моменты, когда Мин отвечал ему, скульптор выглядил ещё более опустошённо, нежели когда молчал совсем.
— Скажи мне, не тот ли это человек, о коем ты пытался мне поведать? Тот, чья скульптура для тебя дороже всех других скульптур? — столь осторожно, боясь ранить и без того раненное сердце, спрашивает художник.
— Он самый, — выдыхает Юнги, пальцами впиваясь в сигару.
— Полагаю, сей юноша для тебя — не просто натурщик?
— Намджун, — столь разбито, художник уж было хотел прекратить сей разговор, однако слов обратно забрать невозможно. — Я люблю его. Люблю по-настоящему, как юного мужчину, с которым мечтал бы прожить всю свою жизнь. Кого целовал бы каждое утро и на ночь, желая снов самых чистых и светлых, кого брал бы за руку и не отпускал бы целую вечность.
— Ты влюблён, мой друг… — поражённо выдыхает Ким, словно лишь сейчас к нему приходит осознание. — Влюблён в мужчину…
Намджун хмурится, пытаясь справиться со всеми мыслями. Юнги же сие выражение понимает иначе, а потому отвечает:
— Когда я с ним, это не ощущается грехом, а самой прекрасной в мире вещью. Любить его — благословение. То есть единственное правильно, а не порочно. Я не стыжусь моей к нему любви, напротив, сию любовь я готов воспеть и увековечить. Твоё полное право — осудить, возненавидеть и отказаться. Я смирюсь.
— Я не был готов такое услышать, — произносит художник. — Однако то не изменит моей к тебе дружбы и чувств восхищения и безмерного уважения. Люби ты кого угодно, я же не посмею ничего сказать тебе в укор. К тому же, разве любовь — не дивное чувство? — Юнги опускает взгляд в пол, поднося сигару к губам и дым потягивая долго. — Стало быть, ты страдаешь от любовной тоски?
— Его больше нет. Пусть лучше бы он меня совсем не любил, но был бы жив. Я страдаю от того, что отныне у меня в сердце пусто и что жизнь без него моя невыносима. То есть вовсе не любовная тоска, то есть намного страшнее.
— Юнги, — выдыхает Намджун. — Ты очень сильный…
— Нет… — шепчет скульптор, мотая головой в стороны и не желая слушать.
— Напротив, ты выдержишь сию боль.
Юнги поникши опускает голову вниз, Намджун замечает сие действие, чувствуя, словно Мин вновь от него ускользает. Он подходит к своему другу, широко раскрывая глаза, зовёт того по имени, увы, получив лишь молчание в ответ. Хозяин мастерской лишь смотрит в пол, не реагируя, художник же — на него самого, после он видит, как с щеки скульптора срывается одна слезинка и падает на пол, разбившись.
— Юнги… — выдыхает Намджун, однако в ответ — тишина. — Посмотри на меня, — слёзно просит гость мастерской и родной человек.
Мужчина не смотрит, даже не пошевельнувшись. Он плачет тихо, совершенно беззвучно, а боль хранит лишь в одном себе, не желая ею делиться ни с кем. Художник осторожно обхватывает его за подбородок и чуть приподнимает наверх лицо, чтобы скульптор, наконец, увидел его. Только желание сие в миг исчезает, когда Намджун замечает на бледной коже множество мокрых дорожек. Юнги отводит глаза и снова молчит. Ким с тоской сдвигает свои брови вместе, а после медленно отстраняется.
— Прости, — шепчет младший мужчина. — Прости… — выдыхает он снова. — Мне искренне жаль и слов здесь не подобрать, однако я прошу тебя: не молчи. Говори со мной о том, как больно. Расскажи всё до последнего чувства, только не храни эту душащую тишину. Она меня убивает.

