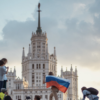Пэйринг и персонажи
Описание
Есть такая очень древняя магия.
Примечания
Условно согласовано с каноном фильма.
Ряд цитат позаимствован из канона, древняя магия — у К. С. Льюиса.
Рассуждения об эльфийской великолепии, злоупотребление синдарином и курсивом, много чувств, мало сюжета. Решение проблемы бессмертия, довольно сильно притянутое за остроконечные уши.
Посвящение
Посвящается Насте, без которой я бы никогда на навернулась в эту пропасть.
///
16 января 2025, 10:26
В тот момент он испытал только одно — облегчение.
Неуклюжие слова были сказаны, неловкие объяснения сделаны; расстегнув цепочку, он почувствовал то, что чувствует, должно быть, спасенный в последний момент утопающий, пленник, обреченный на мучительную казнь, если нашелся тот, кто перережет веревку у горла. Камень пошел на дно, а над головой забрезжил слабый свет. Кулон остался у Арвен, как и часть его жизни, никогда ему не принадлежавшая.
Позже он возвращался мысленно к тому разговору и находил в себе отголоски разных мыслей и р чувств, но неизменно не обнаруживал среди них сожаления. Эта ночь была звездная, черно-синяя в серебряном мерцании, будто бы совсем мирная. Мало осталось таких ночей, и пришлось научиться ценить их среди многих.
— Почему ты не спишь?
Арагорн не обернулся, даже плечом не повел: он заметил, что не один, еще несколько минут назад. Эльфы, конечно, не напрасно гордятся умением передвигаться совсем бесшумно, но отбрасывать тени — свойство всего сущего под луной. Как бы ни были безупречны их невесомые шаги, следы от которых сходят быстрее, чем вечер сменяется ночью, и серебристые голоса, и странное пение, как бы совершенны ни были их лица, несовершенство бытия найдет, где взять свое. Он думал иногда, каково это — быть совершенством. Наверное, очень горько.
— Не знаю. Просто не спится.
Сейчас, прислушавшись, можно было различить шелест травы, но и только. Тень пошатнулась и соскользнула с берега на воду, а Леголас опустился на землю рядом так же тихо и легко, как подошел. Странные, удивительные существа. В чем-то — совсем как люди, а иной раз — недосягаемо, непостижимо другие.
— Ты имеешь возможность отдохнуть и не хочешь воспользоваться ею, — он качнул головой, улыбаясь, — прости меня, но порой я совсем не понимаю людей.
Арагорн тихо рассмеялся (в тишине ночи показалось, что звук рассыпался по всей округе) и наконец повернул голову в его сторону. Ничего не изменилось, по крайней мере, снаружи, и в то же время изменилось все: впервые он чувствовал себя вправе смотреть. Не отводить взгляд, не прищуривать глаз.
— Ты не представляешь, как часто мы сами себя не понимаем.
Обычно они говорили на синдарине, чтобы скрыть разговор от лишних ушей, но не сейчас: сейчас все спали, вокруг не было ни души. Может быть, просто язык людей был не в силах предложить достойной альтернативы? Отстраненные размышления не особенно помогали отвлечься от размышлений насущных. Теперь, когда он разрешил себе смотреть, и не просто смотреть, а видеть, то заметил, что Леголас изучает его внимательным, пристальным взглядом, не пропускающим никаких мелочей. Но то, о чем он спросил, не было мелочью; то, о чем он спросил, уже заметили все, кто знал, куда смотреть.
— Ты отверг ее. Арвен, Вечернюю Звезду. Почему?
— Скорее освободил, — Арагорн тяжело вздохнул, но выдохнуть тяжесть из груди так и не смог. — Не стоит принимать того, чего не можешь пообещать в ответ.
— Это не тебе решать. Это не твой дар.
— Так только кажется, — он пожал плечами и почти безразлично уставился вдаль — как раз на запад, куда уже тянулись вереницей эльфийские корабли. — Иной дар хуже проклятья для того, кто его не желает.
Леголас больше не возражал. Молча сидел рядом и не сводил с него внимательных глаз, будто пытался заглянуть глубже, в душу, и не было уверенности, что заглянуть не мог. Быть может, стоило спросить его о чем-то — «Ты хотел бы уплыть со своим народом?» или «Зачем возлагать на смертных бремя, которого мы не способны вынести?», но любые вопросы казались пустыми, любое любопытство — праздным и недостойным. В его глазах плещется серебристое море, его сердце носит в себе печаль минувших эпох. Глупые, глупые люди, тщеславные и алчные до завоеваний, вечно стремящиеся к тому, чего не могут иметь. Какое высокомерие, подумать только… Не принять со смирением величайший дар, вовсе отказаться — от всего — раз не можешь получить желаемое. Недосягаемая цель или ничего. Сокрушительная победа или разгромное поражение.
Нужно быть лучшим, по крайней мере, лучшим в своем роде, чтобы совладать с буйствующей гордыней. Арагорн вовсе не тешил себя пустой надеждой суметь: пусть он смог отказаться от Кольца — но и только. Много ли нужно, чтобы справиться с маленькой золотой побрякушкой, если знаешь и ежедневно одолеваешь искушения куда более сильные? Кольцо, которое он носил как символ наследия предков, более темной тенью омрачало и без того невеселые мысли; мечта на кончиках пальцев — только руку протяни — манила гораздо сильнее всевластия.
Но все это было неважно; многие трудности лежали теперь позади, кровью первой потери окрасилась земля. Ночь сгущалась, не предвещая зари. Но их путь продолжался: по полю и лесу, берегами озер и рек изумительной синевы. Солнечными днями, дождливыми вечерами и грозными рассветами. Радость воссоединения, боль новой потери. Дым, пыль и утренние туманы. Рохан.
В огне сражения несущественное отступало на дальний план. Все оборвалось так внезапно, что не было секунды и закричать, но если бы он мог — если бы.
Он не мог, и темнота сомкнулась над его головой.
Дальше не было ничего.
Темнота.
Глубокая, упоительная темнота. Темнота — и пустота в ней.
Раз. Два…
Три.
Река принимает его, баюкает, сверкающий поток уносит за поворот, укрывает меж грозных скал и приветливых прибрежных трав. Золотые блики танцуют на водной ряби, день ясный и солнечный. Он не видит этого; он спит.
— Арагорн…
Сквозь толщу, сквозь темноту кто-то, должно быть, зовет его. Он не слышит, не должен слышать; его сон слишком глубок, ничто не потревожит теперь его покоя.
— Эстель…
Имя. Это имя, его имя. Его давно не зовут так больше. Это сон, просто сон, долгий сон в восхитительной пустой темноте.
Он не может пошевелиться. Не может открыть глаза.
Сквозь темноту пробивается луч.
— Просыпайся, Эстель, время пришло. Пора.
Ему больно. Боль, везде боль — ее так много, ее невозможно вынести. Луч набирает силу, луч разрывает тьму, тьма распадается, вместе с ней распадается пустота. Боль обрушивается на него со всей мощью, свет ослепляет. Ничего, кроме света. Белый, поразительно белый. Как звезды. Как…
Кто-то склонился над ним, но лица не разобрать. Кто-то с волосами такими же белыми, как этот свет, с глазами такими же ясными, как звезды. Он знает, знает, знает…
Только не может разобрать.
Там есть еще один, второй. Его вовсе не видно, он совсем растворяется в белом и молчит, молчит и улыбается. Больно. Как же больно. Что-то капает ему на лицо, это роса? Нет, роса холодная, звонкая, как рассвет. А ему горячо. Это слезы. Он чувствует чьи-то слезы, он знает, чьи, только не может сказать.
Что-то разгорается внутри него, выжигает сердце, и тут же гаснет, и мир затихает на миг. Схлопывается вместе со светом и темнотой.
Он просыпается.
Небо над ним синее, как было тогда, и вокруг нет ни души. Интересно, сколько он спал? Должно быть, очень, очень долго… Несколько бесконечно долгих эпох.
Теперь чувства постепенно возвращались к нему. Возвращалось ощущение времени. Покалывало в пальцах, через немоту во всем теле он смог шевельнуть рукой. Раз, другой. Нет, ни одной эпохи не минуло, пока он пребывал во сне: когда наконец Арагорн смог открыть глаза, боль по-прежнему была с ним, пусть не такая сильная, как прежде. Он был измучен, и слаб, и изнурен жаждой и зноем. Но он был жив.
Река, которую он помнил — последнее, с чем встретилось его тело, прежде чем провалиться во мрак безвременья — журчала внизу, а вовсе не несла его вперед, как казалось мгновение назад. Лицо щекотали полевые травы, возвратившийся слух уловил вдалеке пение птиц. Превозмогая себя, Арагорн поднялся на ноги, усилием скорее воли, чем тела, и огляделся.
Место, где он оказался, было знакомым и незнакомым одновременно: бесконечные зеленые холмы, окруженные живописными горами. Он мог быть где угодно на просторах Средиземья, но лучше бы… Перестук копыт и конское ржание отвлекли его; никогда прежде, кажется, Арагорн не был так счастлив видеть коня.
— Брего… Дружище.
Выходит, Брего нашел его. Проследовал за ним, чтобы теперь вернуть его к своим. Значит, должно быть, он был еще во владениях Рохана, не так далеко от того утеса, где чуть не оборвалась его странная и запутанная жизнь. И ведь все-таки не оборвалась… Конь участливо ткнулся мордой ему в плечо, прикрыл умные глаза, опустился наземь, подставляя измученному всаднику спину — и Арагорн, собрав последние силы, взобрался в седло. Если он прав, то добраться до нужной точки будет не так уж сложно и не так уж долго.
Брего понес его сам, он не стал вмешиваться, отчего-то уверенный, что они верно держать путь в Хельмову Падь. Боль утихала постепенно, и ясность мыслей возвращалась к нему. Он снова чувствовал на лице ласковый ветер, снова различал цветочные запахи в нагретом воздухе. Чем закончился тот бой для отважных защитников Рохана? А для его друзей? А… Мысль настигла раньше, чем Арагорн успел помешать ей, и отозвалась в груди резким уколом сожаления. Нет, разумеется, не было его вины в случившемся. И все же он живо представил себе, как тень скорби омрачила красивое лицо, как осознание очередной безвременной потери отозвалось в глазах, видевших и так больше горя, чем может познать на своем веку человек, и стало мучительно стыдно оттого, что не справился с такой малостью: не быть причиной его печали. Быть может, он был слишком самонадеян — думать так, не зная доподлинно. Но отчего-то казалось, что Леголас не воспримет вести о его гибели стоически, а значит, Арагорн будет ответствен за его скорбь, пока своим возвращением не докажет обратное.
Они преодолели приблизительно полпути, когда Арагорн наконец почувствовал, что силы сполна вернулись к нему. Он был все еще утомлен, и больше всего ему хотелось бы сейчас провалиться в объятия лунной ночи и безмятежно проспать до самого утра под смутные воспоминания о прекрасных чертах и звучание древнего наречия; но это могло подождать, сколько необходимо, пусть даже ждать придется еще очень долго. Осколки видений то и дело всплывали в голове — странные сны он видел, пока спал, замерший между тем миром и этим. Больше похожие на мечты, самые сокровенные, самые отчаянные. Непроизвольно рука потянулась к груди, и поскольку сейчас он был один, то мог позволить себе такую слабость; там снова как будто разгоралось что-то теплое и ясное, способное согревать изнутри. Пальцы нашли тонкую цепочку, такую легкую, что он совсем не замечал ее веса, и нащупали что-то — то, от чего шел этот притягательный свет, что…
В ту же секунду, когда что-то легло в его руку, Арагорн замер, и Брего тоже замер под ним, тонко почуяв перемену в настроении. Раньше он то и дело касался звезды, что носил у сердца, чаще оттого, что вес ее был все тяжелее с каждым днем, но звезды не было при нем с самого их прощания с Арвен. И ничего другого не было — он допускал, что память могла подводить его после долгого забытья, но в этом был уверен точно.
Арагорн потрепал коня по гриве, веля продолжать путь; не было повода задерживаться, когда нужно как можно скорее оказаться на месте. Размеренный шаг дал ему вовсе отпустить поводья, чтобы разомкнуть цепочку на шее и взглянуть на незнакомую вещицу, которую он так долго, оказывается, не замечал.
Амулет, что оказался в его руке, был действительно незнаком ему. Камень, мерцающий изнутри, завораживающе-неопределенного цвета, в серебряной оправе, вьющейся гибким плющом. Серебряная цепочка из мелких звеньев, тончайшая работа, признак удивительного мастерства. Скорее, искусства… От камня действительно исходил мягкий ровный свет, едва различимый, но все-таки явный. И тепло. От него было тепло.
О нет, Арагорн не мог заблуждаться, память не могла так подвести его: он запомнил бы, держи хоть раз в руках эту удивительную вещь. Осмотрев амулет со всем вниманием и осторожностью, он не нашел ничего, что выдало бы его происхождение; впрочем, изящество исполнения позволяло без труда установить — украшение выковали эльфы. Даже если бы он захотел обмануться, не смог бы. Неясное предчувствие, предвосхищение смутной тревогой заворочалось на душе, но, не имея возможности подтвердить или опровергнуть его немедленно, Арагорн вернул амулет на место и, строго запретив себе пустые рассуждения, пустил Брего бодрой рысью. Ум его был теперь занят тем, чтобы не допустить ненужных переживаний, и оставшаяся часть пути прошла совершенно незамеченной.
Когда он наконец прибыл на место, уже смеркалось, а воздух Хельмовой Пади был пропитан отчаянием. Предчувствие грядущей беды кольцом сжималось над крепостью, и — увы! — он не привез с собой новостей, которые могли бы развеять сгущающиеся краски. Скорее наоборот.
Арагорн спешился на мосту, отпустил коня и поспешил в крепость. О, это была древняя, могучая крепость, она не раз выручала свой народ. Что теперь будет с ней? Переживут ли они то, что готовят грядущие дни? Он без страха перебирал в голове невеселые мысли; кажется, страх оставил его много дней назад.
Весть о его возвращении быстро разлетелась, передаваемая из уст в уста, люди шептались — пораженно или радостно (было ли еще место для радости здесь, где каждый почти отчаялся, хотя мало кто признавался в этом?) — но Арагорн не прислушивался к их разговорам, не отвечал более, чем дружеским приветствием. Нужно было… Да, собственная усталость более не имела значения; даже больше, чем переговорить с королем роханцев, ему нужно было…
Впрочем, Леголас нашел его сам. Появился как из ниоткуда и сказал:
— Ты припозднился.
И снова — странная тишина, притупляющая окрестный шум, такую тишину самых звездных ночей Леголас носил с собой, будто жил в ней, спокойной и благородной. Даже в бою, даже в минуты самого мрачного отчаяния. И что ему отвечать, неясно, и некуда было спрятать потерянный взгляд. Всю дорогу Арагорн думал, что ему сказать, и порой, казалось, даже подбирал правильные слова, но все они опять разлетелись мелким бисером по полу, пыльцой по ветру — и он стоял совершенно безоружный, и ему нечего было ответить. Оставалось только глупо улыбаться, совершенно несоответственно общему настроению.
— Выглядишь ужасно, — Леголас осмотрел его быстро, но придирчиво; все, что он делал, было совершенно не то, чего следовало бы ожидать. Смотрел как-то не так, говорил не то, что говорят тому, кого совсем не рассчитывали снова увидеть живым… Нечто неуловимое в его интонациях, взгляде, во всем положении вызывало у Арагорна беспокойство и сомнения, но он никак не мог понять, что именно. — Я рад, что ты наконец здесь.
Железные тиски разжались было на сердце (он почти был готов выдохнуть и принять повисшее напряжение как данность), но тут сжались снова: Леголас вдруг протянул руку, несвойственно ему шаткую, словно от нерешительности, и накрыл ладонью амулет у него на груди. И можно было бы сказать, что Арагорн вновь забыл о нем — он ничего не весил, о нем легко было забыть, но только на первый взгляд. Да, он гнал прочь навязчивые мысли — только потому, что сами они не покидали его разум ни на минуту с тех пор, как он впервые нащупал цепочку. И вот теперь… Неизвестно, сколько они простояли так, молча, пока вокруг продолжал разлетаться на части целый мир. И снова: нужно было что-то сказать, а слова умирали несказанными; нужно было найти в себе силы теперь, когда до ответов было рукой подать, и нужно было найти в себе смелости. Всего лишь быть смелым — один-единственный раз. Гораздо сложнее, чем в бою, чем даже в бесконечной схватке с самим собой.
— Я рад, что я наконец здесь, — Арагорн повторил за ним почти эхом (других слов не шло), выдохнул, собрался наконец было: — Послушай, Леголас, я должен…
«Спросить тебя»? «Сказать тебе»? Он не успел договорить, чтобы это ни было: Леголас убрал руку, отступил на полшага и перебил:
— Нет. Не сейчас, прости. Просто… Поверь, лучше не сейчас.
Он отвернулся, и момент был упущен; Арагорн проводил его взглядом, когда он поспешил раствориться в снующей толпе. Какая непривычная дерганность, несвойственная эльфам, какая обыденная нормальность. С изумлением Арагорн подумал, что если не знать… Если не знать его, можно принять эту спешку за испуг. Исключено, что и говорить, попросту невозможно — Леголас всегда был бесстрашен, может быть, гораздо смелее его самого, и не было ничего в целом свете, что могло бы это изменить.
Теоден принял его сразу же. У него на душе было столь же неспокойно, и в словах сквозило предвестие грядущего шторма, но даже теперь он оставался тверд, и решителен, и не переставал быть достойным королем своего народа. Как ни досадно, Арагорн не мог сказать о себе того же — впрочем, даже если бы мог, ему некому предложить свою преданность и жертву; роханцы примут ее, но не нуждаются в ней. Но решиться было легко. Нельзя допускать непростительную рассеянность в угоду слабостям, прихотям и желаниям, тем более, в столь трудный час. И хотя ощущение надвигающегося горя тяжелым камнем легло на сердце, он не свернул бы с выбранного пути.
К ночи все улеглось, успокоилось. Один за другим умолкли голоса, затихло конское ржание. Слышались еще редкие шаги по мостовой, обрывки отдельных разговоров; звеня мечами и подбадривая друг друга шутками, новая смена заступила в караул. Темнота накрыла крепость, словно хрустальный колпак, позволяя притвориться — обмануться — поверить хотя бы на эти несколько часов: не о чем тревожиться, сын Гондора, твоя доблесть сегодня не понадобится. Сохрани ее до более мрачных дней.
Вместо этого…
Чувство пришло на смену волнениям, сомнениям, горестям, выплыло откуда-то из глубины и постепенно завладело сердцем.
Узнавание.
Все это уже было, было. Уже была точно такая же, почти беспечная в своем черно-синем безмолвии ночь. Такая же серебряная луна. Только на сей раз они поменялись местами, и как бы он ни старался — человеческие шаги не бывают бесшумными, неровное дыхание выдает беспокойство с головой. Одно то, что Леголас позволил ему приблизиться, будто и не заметил, было самой великодушной лестью.
— Высматриваешь врага?
Эта стена крепости смотрела на запад; Арагорн и сам знал ответ — нет. Враг не придет с запада. Потому не удивился, что Леголас его вопрос проигнорировал.
— Тебе бы стоило отдыхать. Ты все еще ранен.
Было ли это попыткой изящно донести, что он нарушает желанное уединение? Вряд ли. Будь так, наверняка Леголас сказал бы прямо; никакая неясность, возникшая между ними, не должна была стать помехой искренности.
— Я могу сражаться хоть сейчас, — Арагорн слукавил, конечно, говоря так — он мог, но предпочел бы провести ближайшие дни, отдыхая перед неизбежно тяжелым боем, и не был так уж уверен, что клинок не подведет его. Но, и так слишком плохо справляясь с тем, чтобы не быть причиной чужих переживаний, он если и мог сделать хоть что-то, чтобы их развеять — должен был сделать. По всей видимости, его слова попали в цель, только неясно, так ли, как он того хотел; Леголас наконец прекратил безрезультатно всматриваться в горизонт и развернулся к нему лицом. Вид у него был непривычно потерянный.
— Прости мое беспокойство. Я никогда не усомнюсь в твоей храбрости, но храбрость — не то же, что безрассудство. Необдуманный риск может стоить тебе жизни, и, — он как будто замялся на миг, позволил себе погрузиться во внутреннюю борьбу, но все же сказал то, что, наверное, и собирался: — Я не знаю, смогу ли помочь тебе во второй раз.
Ему тяжело дались эти слова, и не было ничего удивительного: всегда трудно озвучить то, что витает в воздухе, но в чем страшно сознаться, потому что еще страшнее — поверить. До последнего Арагорн не разрешал себе думать, надеяться, не мог даже на миг допустить такой вероятности, и вот, правда лежала перед ним, ясная, как белый лист или новый день. Желанная и страшная и дающая надежду. Получив свою правду, он получил и власть: распорядиться ею по своему усмотрению. Исцелить или ранить еще сильнее. От великой власти происходит великая ответственность, и он не вспомнил бы, когда держал на своих плечах более тяжелый груз. Будто небо падает.
А ведь вокруг стояла все та же хрупкая, необыкновенная тишина. Скалы по одну руку, обрыв крепостной стены по другую. Башни-зубцы. Древний камень, серо-голубой в лунном свете.
— Я знал, что это ты, — тихо и медленно, опасаясь спугнуть момент, Арагорн протянул руку — оказалось, расстояние между ними и того меньше. Коснулся плеча, замер, но видение не исчезло. — Я тебя видел. Только не мог поверить. Или понять.
Тогда он шагнул вперед, и рука согнулась в локте за ненадобностью тянуться, и под пальцами у него оказался не лунный свет, а обычные, почти человеческие волосы, только мягкие, как перо, и не холодный фарфор, а самая обыкновенная, теплая и живая кожа. Нет, не теплая — сейчас — горячая, кто бы мог подумать, эльфы ведь не знают ни волнений, ни страха, ни метаний неприкаянной человеческой души, кто же знал, что у них точно так же, совсем по-человечески могут гореть щеки? Кто же знал, что, заглянув в глаза прямо и честно, он увидит, как Леголаса трясет. Не от страха, а от необъяснимого, первобытного ужаса. Разве же так бывает?
— Видел… ну да, — голос его не дрогнул, несмотря ни на что, и — совсем, кажется, безотчетно — он потянулся к руке, обнявшей его лицо. — Гэндальф говорил, что это возможно.
Гэндальф. Вторая белая фигура, которую было едва различить, сотканная из света, улыбающаяся и мудрая. Можно было и догадаться, если бы только — да, если бы только Арагорн был тогда в состоянии.
— Гэндальф, конечно… Но как? — не раздумывая, обезоруженный отсутствием видимого сопротивления и такими нормальными, совершенно человеческими и человечными ощущениями, в которых отказывал себе так долго, Арагорн уже не мог остановиться: погладил по щеке, по шее и за ухом, и дальше, разделяя пятерней волосы на неаккуратные пряди — наверняка кощунственно, но какая разница, если ему не возражали; теперь так легко было бы (всего одним, очень простым движением) потянуть на себя и поцеловать его, не дожидаясь ответа. И хотелось больше всего на свете, но прежде он ждал так долго, что вполне мог подождать еще.
— Видишь ли, есть такая… очень древняя магия, — Леголас наконец отмер, выдохнул медленно-медленно и встречным движением вернул руку ему на грудь — будто продолжая прежний разговор, который сам и прервал, сославшись на то, что сейчас не время. — Только выслушай меня. До конца выслушай, я правда хочу тебе объяснить.
В том, как он говорил, было что-то необычайно ценное, непривычная уязвимость, преподнесенная на открытой ладони. Арагорн молча кивнул — говори, сколько потребуется, я слушаю тебя. Чистая правда: он был готов слушать. Он хотел слушать, хотел получить, наконец, ответы и вместе с ними обрести давно утраченную легкость сердца.
— Магия, которая древнее, чем все мы, древнее даже, чем мы можем себе представить. Я знал о ней, но никогда не думал, что мне придется — что я захочу прибегнуть к ней. Пока не узнал, что могу потерять тебя навсегда. — Волнение в голосе постепенно сменялось отчаянной решимостью: «Будь что будет», — говорила эта решимость. Леголас обещал ему рассказать; Леголас всегда держит слово. Уж в этом сомнений быть не могло. — Теоден велел бросить всех павших, но ведь я не его подданный, так что, — он чуть улыбнулся, — я обещал Гимли догнать их позже. Гэндальф нашел меня уже на берегу, когда я думал, что никакой надежды нет.
Хоть Арагорн и не хотел перебивать его, здесь все же не удержался:
— Ты сам всегда говоришь мне, что надежда есть всегда.
— Знаю, — Леголас подошел еще на полшага, и расстояния между ними совсем не осталось. — Но ты не можешь обвинить меня; я думал, что… Я думал о худшем, и мне не в чем было найти утешение. Гэндальф нашел меня, и напомнил об этой магии, и я попросил его помощи. — Рука на груди сжалась вокруг амулета, Арагорн подумал отстраненно, что камень в нем по-прежнему отдает тепло. — Видишь ли, мы, эльфы, порой ужасно сентиментальны. Я мог бы просто отдать тебе свое бессмертие, но выбрал вот это… Раз уж ты вернул вечернюю звезду Арвен. Прости меня за мою маленькую прихоть.
Как набатный колокол прямо над ухом. Как обухом по голове.
Отдать тебе свое бессмертие.
Арагорн понял, что смотрит на него и молчит уже непозволительно долго, только когда на лице напротив снова начало проступать беспокойство. Леголас что-то еще говорил, вероятно, но он все равно не услышал.
Отдать. Бессмертие. Ему.
Не спросив его мнения, не поинтересовавшись, готов ли он принять такую жертву. Просто отдал — как безделушку, завалившуюся в глубокий карман. Как будто оно ничего не стоило.
— Но это… как… и сколько, — слова не шли, Арагорн запнулся трижды, прежде чем заставил себя сказать: — Что теперь будет? С тобой, со мной, с…
Он звучал нелепо, глупо, растерянно, но разве можно было звучать иначе? Леголас рассмеялся, но это не было насмешкой, скорее смехом облегчения, и отпустил амулет висеть у него на груди, а руку поднял к лицу и дотронулся почти невесомо — убрал волосы со лба, обрисовал скулы.
— Ничего. Ничего, о чем тебе стоило бы беспокоиться. Нет такого лекарства, которое исцеляло бы от смерти дважды. Того, что у меня было, хватило, чтобы вернуть тебя к жизни. Теперь все останется, как и было всегда, только, — он сделал эти последние не полшага даже, а пол-падения в неизбежность, и сказал где-то у самого лица, где картинка смазывалась в одно сплошное пятно-впечатление: — Возможно, я обрек тебя на лишние пару тысячелетий — не знаю, и Гэндальф сказал, что никто не может знать, каким станет для нас обоих течение времени, но зато… Я избавил себя от вечности в одиночестве.
Леголас замолчал, его извинение — за то, что посмел думать тогда о себе — повисло несказанным, но явным. Ему на за что было просить прощения. Зато было так много — всего — невозможного, странного, удивительного; такого прекрасного, какого не заслужил ни один человек на этой грешной земле. И Арагорн хотел что-то еще спросить, но тут же забыл, что, потому что расстояния между ними не осталось, а целовать его было так хорошо, как и представлялось, и, может быть, даже лучше.
Поцелуй закончился, но объятие не разомкнулось. Арагорн скорее почувствовал, чем услышал, как Леголас сказал куда-то ему в шею:
— Ты ни за что не позволил бы мне, если бы я предложил, — он наугад ткнулся губами, попадая ровно над тем, как лежала на шее цепочка, — но это мой выбор. Это не жертва, не одолжение, не приговор. Ты мог бы отвергнуть меня, если бы захотел; ничто не заставило бы меня сожалеть.
Все это было — слишком хорошо, чтобы поверить, чтобы оказаться правдой. Арагорн хотел (должен был) сказать что-то вроде: «Я не тот человек, ради которого стоило». Или: «Как ты не понимаешь, что мне нечего дать тебе взамен». Но, ведомый каким-то внутренним побуждением, сказал совсем другое:
— Я ни за что бы не смог тебя отвергнуть, — и прижался поцелуем ко все еще горячему от волнения лбу. — Не тогда, когда я готов отказаться от всего остального, чтобы тебя любить. Выходит, все, что мне остается, — прожить свою новую долгую жизнь так, чтобы быть в ней достойным твоей любви.
— Тогда и не считай, будто лишаешь меня чего-то. Не ты ли сказал, что бывает дар, который хуже проклятья; прежде ни дня не проходило, чтобы я не сожалел о грядущей вечности без тебя, — Кожей он почувствовал, как Леголас улыбается — и улыбнулся тоже. — Я лучше разделю одну смертную жизнь с тобой, чем проживу все эпохи мира в одиночестве.
Арагорн сжал руки крепче и, зажмурившись крепко, приказал отступить уже привычным безрадостным мыслям. Ночь была тиха, и еще совсем молода, но уже удивительно звездна; и время, действительно, словно замедлило бег. Кто знает, сколько еще таких ночей доведется безмятежно проспать древней крепости и людям, укрывшимся в ней, кто знает, сколько времени отведено тебе, хоть имей лишнюю тысячу лет в запасе, хоть не имей ни дня. Но пока можно было держать целый мир в объятиях, все прочее становилось, хотя бы на миг, неважно; и пока тепло у него на груди не угасло, была жива и надежда на завтрашний день.