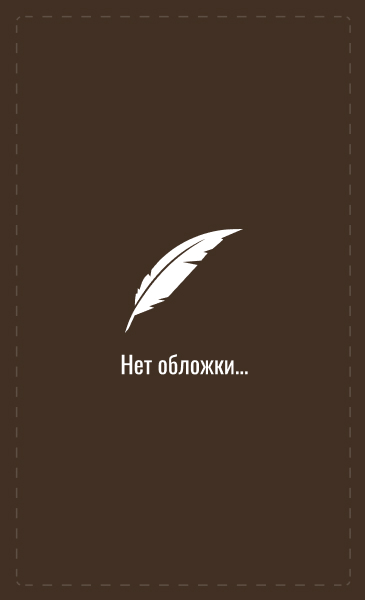
Метки
Описание
Та работа, с которой моя графомания и началась) Само собой, "Поня: Военное дело" планируется публиковать на Фикбуке в переписанном виде (так как в оригинале там так коряво, что читать невозможно), а потому печататься тут будет медленно и постепенно. Если кому невтерпеж (впрочем, а кому оно, вообще, надо-то? чай, фигня от графомана), то можно вбить в поисковик или посмотреть на "Табуне" - где-то там все (или почти все), что уже написано, есть.
Примечания
И, да, что сие фигня есьм такое: это псевдоисторическая графомания, первоначально рассматривавшая то, как у эквестрийских поняшек могло бы возникнуть и развиваться военное дело, потом активно ударившаяся (так как, автор еще тот) в альтернативную историю и сочинения за поней понячьего фольклора. Писанина не закончена (остановлена на начале 9-й главы, по табунской системе учета), и вряд ли будет когда-то закончена.
Посвящение
Мои благодарности брони MLPMihail, Dilandu, afraniy, Noncraft, Aluxor, Gedzerath, Rj-PhoeniX, DarkKnight, Rinar, SMT5015, LozoHoD, graf_leon, BusyaCipher, VIJNYL124 (вот перед ней я изрядно провинился...), Captain, MadHotaru, Limrei, Irbis, Tomty, S_Ayaal, GreenWater, Rishka, Krynnit, RaitaFoxy13, Nowhere, GL_DOS (да, тебе тоже спасибо) и другим, которых я, наверняка, забыл упомянуть и тех, у кого я без спросу попячил картинки на кривую переделку.
Глава 5 Пони побережий морей Безрогих, Травульви и Окраинных островов
12 августа 2023, 06:10
Пони побережий морей Безрогих, Травульви и Окраинных островов в период с 2800 по 2552 годы до Э.Г.
Ранее были рассмотрены пути развития военного дела зебр Западного побережья Юга. Но что происходило на Восточном побережье? как и почему развивалось военное ремесло там? Теперь пришло время рассмотреть эти вопросы. Но! Стоит сказать, что к рассматриваемому периоду истории полосатые пони уже успели широко расселиться и основательно обжили не только само Восточное побережье, но и Окраинные острова. А с севера к морю Безрогих вышли земнопони, начавшие принимать активнейшее участие в жизни региона. Так что, правильнее будет говорить об обзоре военного дела пони побережий морей Безрогих, Травульви и Окраинных островов. Восточное побережье Юга https://i.imgur.com/ouyzrrf.jpg В период с 2800 по 2552 годы до Э.Г. центр исторического развития полосатого племени переместился на Восточное побережье Понячьего и Окраинные острова. Плодородные земли, мягкий климат и удобные морские пути издавна привлекали полосатых пони на берега морей Безрогих и Травулви. В период же становления цивилизации, когда на Восточном побережье расцвела морская торговля, заселение этих мест приняло массовый характер, поглощая большую часть “лишних хвостов”, рождающихся на равнинах зебр. Огромный поток непристроенных, но молодых и энергичных понек вместе с широкими горизонтами еще неосвоенных и даже не открытых земель встряхнули жизнь Восточного побережья, сделав его новым центром полосатого мира. К 2800 году на Восточном побережье уже существовало огромное число небольших государств с устойчивой властной структурой, развитой экономикой и сложившейся культурой. В основном эти государства представляли из себя своеобразный внутриплеменной союз земледелиц и горожанок, скрепленный идеей о мистической силе родства. Да, именно с Восточного побережья идут истоки зебрского национализма. И породил вовсе не Легион – Зебрика лишь впитала то, что было создано на востоке. К добру ли? К худули? Но вернемся в те древние времена. Внутри такое государство было разделено на городскую и деревенскую части, каждая из которых обладала собственным самоуправлением, собственными вооруженными силами и собственным жречеством, но которые были намертво связаны друг с другом общей экономикой, идеями священного единства крови и необходимостью совместно управлять делами своей страны, теснейшим образом связанными с международной торговлей. Так что, государственное управление было представлено довольно своеобразно: у обеих частей племени имелись собственные, дублирующие функции друг друга, институты управления, которым приходилось принимать все решения сообщя, договариваясь между собой. При этом, любые приматы или право «veto» прибрежные зебры отрицали как вредные: “Мерзко и гадко принуждение в делах табунных. Коли не могут сестры договориться промеж собой полюбовно, то пусть страдают обе. Пока не поумнеют.” (Куньва Цяй, «О табуне понячьем и о табуне табунов»). Под чем имелись не только религиозные, культурные и традиционные основания, но и прямой шкурный интерес: в отличие от Западного побережья с его огромными расстояниями и крайне плохими путями сообщения, на Восточном побережье поселения зебр с легкостью сообщались друг с другом, а их число было велико. Проще говоря, и деревни, и города в экономическом плане были вполне заменимы: деревенские зебры могли выбирать из нескольких портов и нескольких ремесленных центров, тогда как и перед горожанки не было проблемы единственного источника продовольствия, ремесленного сырья и свежей рабочей силы. В общем, дабы избежать и хаоса с анархией, и неконтролируемой тирании случайно укрепившейся силы, зебры Восточного побережья были вынуждены отказываться от эффективности управления в пользу громоздкого, но сохраняющего баланс сил дублированного властного аппарата. Впрочем, целиком это данную проблему не решало: весь этот период в регионе происходило становление крупных полосатых государств за счет поглощения и ассимиляции небольших зебрячьих полисов и их сателлитов, закончившееся формированием тех самых племенных союзов, что позже оппонировали Зебрике. Также стоит сказать, что подобный интересный (и не слищком эффективный) способ управления государственными делами был обусловлен еще и тем, что вмешавшиеся в свое время в социальную эволюцию зебр ковены не дали горожанкам загнобить и подчинить своей воле земледелиц. Благодаря этому в государствах Восточного побережья не было деления на граждан первого и второго сорта, что было обычным делом для единорожьих Миста и Экв. Вместо этого зебры одного племени, наоборот, сплачивались еще больше, предпочитая выплескивать избыток раздражения на инородцев. В зебрской философии этот феномен получил название “табун табунов”. Что подразумевало, что даже очень дальние родственницы, все равно, остаются членами одного гигантского супертабуна, физическим выражением которого было племя/народ/нация, а его “вожачкой” выступал государственный аппарат. Потому, с точки зрения восточных зебр, относиться друг к другу пони должны соответственно: государство, с точки зрения восточниц, это одна большая деревня, где все родственны друг другу, все должны относиться друг к другу с сестринской теплотой, а подчинение его чиновницам должно быть беспрекословным – как матери. Увы, это же подразумевало довольно непоняшное отношение к любым чужакам, протранслированное восточными зебрами в цивилизацию аж из самых замшелых этапов эпохи дикости: это другой табун, в принципе, чуждый и враждебный – с ним можно и нужно торговать, но не более, так как иначе он обязательно покусится на жеребцов и зерно твоего табуна. Небольшое отступление: Легенда об истории названия моря Травулви https://ficbook.net/readfic/12819458/35316237#part_content Военное дело Восточного побережья https://i.imgur.com/aN7mR40.jpg Двойственность зебрского общества Восточного побережья отразилась и на их взглядах на военное дело: зебры активно вели завоевательные войны в интересах крестьянок и ковенов, но, в то же время, без пристального внимания полосатых корсаров не оставались и морская торговля конкуренток. Та же двойственность наблюдалась и в вопросах формирования армии. С одной стороны, горожанки и селянки обладали каждый своими вооруженными силами. С другой же стороны, идеи единства крови сплачивали их, гася противоречия и позволяя действовать как одно целое. Как уже было сказано, армия государств Восточного побережья состояла из двух частей: армии землепашиц и ковенов и армии горожанок. Обе эти части могли использоваться как по отдельности, решая специфические задачи. Тогда ими командовал штаб из представителей сформировавшей их части населения и князя. Так могли они применяться и вместе, когда государству полосатых требовались все его силы. Тогда командование осуществлялось двумя штабами, которые управляли каждый своим войском, а по общим вопросам пытались вести переговоры друг между другом. И тут уже многое зависело от личностей командующих. Не зря, ведь, среди зебр до сих пор ходит пословица: “Упрямые воеводы страшнее любого врага”. Армия селянок и ковенов состояла из нескольких неравных частей: дружина, ополчение, ведьмы ковенов и наемники-“бродячие топоры”. По большому счету эта часть вооруженных сил полосатых государств Восточного побережья была самой консервативной. Единственным новшеством в ней были отряды ковенных “ведьм”, появившихся практически теми же путями, что и на Западном побережье. Подобная закоснелость армии селянок была вполне объяснима: цели этого воинства не изменились — захват чужих земель и защита своих территорий от подобного безобразия. Так что, не было никакого смысла менять сложившуюся и работающую военную машину. Армия горожанок же использовались преимущественно для ведения боевых действий на море. А потому, строилась по-другому. В ней были как традиционные элементы: дружина, ополчение, наемники-“бродячие топоры”. Так и присутствовали новшества: “подлые гривы” и “городские гривы”. Прежде, чем рассмотреть эти два новых элемента полосатого воинства Восточного побережья, надо сказать о том, почему они носят столь необычное название. Все дело было в том, что “подлые” и “городские гривы” были частью военно-морских сил зебрских государств. Ну, а моряки-поняшки, в отличии от “сухопутных крольчих”, называли друг друга “гривами”. Так как, именно гриву первой различали вахтенные, будь ее владелица на палубе или в воде. “Подлые гривы” — по факту, корсары, практически полностью аналогичные привентам Отрожьего. Единственное их отличие, кроме понитипа, от коллег-единорожек было то, что формирование пиратских банд шло не на основе терций мерценар (которых тут, попросту, не было), а на базе ватаг “беззаконных хвостов”, что обусловливало гораздо большее содержание среди пиратов жеребцов, чем среди западных коллег. Впрочем, доля кобыл среди полосатых корсаров, все равно, была существенно выше, чем в сухопутных ватагах “беззаконных хвостов”, так как слабый пол пони обычно переносит тяготы плавания гораздо лучше своих кавалеров. Кстати, тут же стоит упомянуть, чтобы не повторяться ниже, о, казалось бы, совершенно невоенном аспекте пиратства в морях Безрогих и Травульви. Когда местные пираты захватывали корабль, они его не топили и, тем более, не расправлялись с пленниками (пони жалостливы и мягкосердечны, даже если они пошли по кривой дорожке разбоя). Но и в рабство (кроме жеребцов) они плененных мореплавателей не обращали, как это было принято у единорогов. Так как, не было широкой практики рабовладения у безрогих. Вместо этого местные пираты, облегчив торговое судно, приклеивали ограбленных хвостами к палубе или друг к другу. Пока пострадавшие поньки приходили в себя и, ойкая от боли, пытались освободить украшения своих крупов от липких объятий клея, пираты успевали уйти достаточно далеко. Если же разбойникам приглянулся не только груз, но и корабль ограбляемых, то тех высаживали на берег, предварительно удостоверившись в его обитаемости и безопасности. Пленение с целью выкупа почти не практиковалось: родовые узы между зебрами Восточного побережья все еще были очень сильны, а делать себя врагом целого племени решались только самые отмороженные из самых отмороженных пиратов. “Городскими гривами” называли личные миниармии богатых “ростков” горожанок. Огромный грузопоток и не меньшее пиратство в морях Безрогих и Травульви вынудили “ростки” торговиц обзаводиться собственными боевыми кораблями, которые гоняли морских бандюков, а также время от времени вредили конкуренткам. Но доверить это дело наемникам было нельзя: в море те вряд ли будут точно придерживаться договора, предпочитая не ввязываться в неприятности, оным подразумеваемые, и, наоборот, создавая проблемы ни какими договорами не предусмотренные, если будут уверены в собственной безнаказанности. Отправлять же с “беззаконными хвостами” своего представителя тоже идея не из лучших — запугать оставшуюся посреди моря в компании головорезов поняшку ничего не стоит даже для самих пони. В общем, вариант с наемниками отпадал. Зато, сильные своим единством восточные зебры могли положиться друг на друга, так как общая кровь сплачивала их гораздо больше, чем разъединяла классовая борьба. Таким образом, богатые “ростки” торговиц выделяли некоторых своих членов (обычно тех, кто был не слишком склонен к торговому промыслу, но имел храброе сердце и горячий нрав) для охраны своего дела, обеспечивая их битами для этого. Эти поняшки снаряжали корабли и набирали команду из бедных горожанок, тщательно следя за тем, чтобы ни одна чужачка в нее не затесалась, и их окружали только соплеменницы. Такие команды были очень сплочены, так как в это время землячество и кровные узы значили для восточных зебр даже больше, чем во времена варварства. Боевой единицей “городских грив” был “вымпел” — корабль с командой, плавающий под собственным флагом снарядившего его “ростка”. Как правило, “росток” обладал одним или двумя “вымпелами”, которые подчинялись непосредственно его матроне. Но не редким было и снаряжение “вымпела” вскладчину несколькими “ростками” — тогда его подчинение было очень запутанным, что, с одной стороны, сильно затрудняло жизнь капитану, а, с другой стороны, давало энергичной и амбициозной поняшке прекрасные возможности к карьерному росту. И, да, при необходимости “ростки” торговиц передавали свои “вымпелы” под общее командование. В том числе, для ведения боевых действий на суше. Корабли морей Безрогих и Травульви https://i.imgur.com/rYr4Z9Q.jpg В это время по берегам морей Безрогих и Травульви активно развивались мореплавание и судостроение. Зебры, так и не отказавшиеся от тростниковых кораблей-плоскодонок, широко экспериментировали с движителями для своих судов. Так они заменили крайне неудобные для безрогих матерчатые паруса на реечные, которые устанавливали на невысоких мачтах. Впрочем, это парусное новшество, по-прежнему, доставляло много проблем полосатым мореплавательницам. Так что, парусное вооружение можно было встретить только на судах морского класса, но не на многочисленных плетущихся у побережья посудинах. Также полосатым пони удалось наладить устойчивые деловые взаимоотношение с, обычно предпочитающими держаться подальше от своих дальних сухопутных родственников, морскими поньками. Что позволило нанимать жительниц водной стихии в бурлачки и лоцманы, тем существенно расширив возможности полосатых мореплавательниц. И, да, стоит упомянуть, что зебры имели дело именно с морскими пони, а не с их тезками из числа грифоноидов: грифоньи морские пони, как и давшие им жизнь гиппогрифы, на тот момент времени в Эквестрии еще не существовали. Другие новшества в дело мореплавания и судостроения внесли ковены колдунов. С одной стороны, некоторые из колдуний Окраинных островов нашли подход к гигантским морским черепахам, частично приручая, частично заколдовывая их. Что дало зебрам еще один надежный (хоть, и ОЧЕНЬ медленный) движитель для кораблей морского класса, а также привело к формированию ковенов заводчиц и погонщиц морских черепах. С другой же стороны, многолетние наблюдения колдуний за небесами позволили сформироваться искусству навигации по небесным ориентирам, а также инструментарию для его облегчения. При всем при этом полосатые пони отнюдь не отказывались от традиционной бурлачной тяги и весел. Все эти нововведения (кроме черепах) переняли недавно объявившиеся в этих водах земнопони. И в свою очередь обогатили кораблестроение зебр своими изобретениями. Поньгородцы начали строить суда из дерева, внахлест связывая доски канатами между собой, оснастили свои корабли килем и шпангоутами, что обеспечивало земнопонячьим кораблям повышенные мореходность и прочность. Деревянные корабли были, конечно же, не по карману полосатым южанкам, но вот киль и шпангоуты очень им приглянулись — зебры стали оснащать свои тростниковые суда этими земнопонячьими новшествами, тем улучшив их характеристики. Вторым же изобретением стало “пони-в-колесе” — адаптация широко распространенного на земнопонячьих равнинах устройства для перекачки водя под морские нужды. Сей агрегат представлял из себя два расположенных по бортам колеса с лопатками или, появившееся несколько позже, расположенное за кормой единственное широкое колесо с лопатками, соединенное валом с меньшим, находящимся на палубе, колесом, в котором бегали поняшки-гребцы, тем приводя большое колесо, а, соответственно, и судно в движение. Данный движитель был довольно сложен, хрупок и сильно ограничивал число гребцов, но давал возможность более экономно использовать их силы и существенно повышал маневренность судна. Что делало его любимым среди тех мореплавательниц, что предпочитали плыть вдоль берега. Устройство было перенято зебрами, внесшим в его конструкцию изменения в виде дополнительной химической обработки его элементов для повышения долговечности. Были и попытки создать схему с независимо вращающимися колесами, но она смогла прижиться только в портовых буксирах Поньгорода. Окраинные острова https://i.imgur.com/UoGrE8h.jpg Итак, мы в общем рассмотрели созданное полосатыми Восточного побережья в то время. Но подобные родственные государства отнюдь не были единственной возможной формой общественного устройства для зебр в этом региона. Альтернатива им сформировалась на активно осваиваемых полосатыми первопроходцами Окраинных островах. Окраинные острова были открыты и тут же начали заселяться зебрами еще в ранний период становления цивилизации. Самым первым стал известен полосатым пони самый западный из них – Хери Арди, названный так из-за своей благодатности для живущих земледелием лошадок-колонисток (буквально Хери Арди переводится как “Благословенная земля”). Как уже было сказано, сразу после открытия Окраинных островов на них хлынул поток переселенок. Первоначально он был представлен преимущественно варварками, убегающими от цивилизации. Но Окраинные острова были слишком близки к новому центру полосатого мира. Потому, вскоре на них пришли классовые отношения, и поток варварок-колонисток иссяк. Но на смену варваркам уже готовилась новая волна переселенок. На исконно зебрских территориях освободилось немало плодородных земель благодаря исходу варваров. Так что, пристроить “лишние хвосты” теперь не составляло полосатым табунницам никакого труда. Это же, кстати, остановило какое-либо развитие военного дела на этих землях в рассматриваемый исторический период. Другое дело, что среди этих “лишних хвостов”, как и во все времена, хватало юных радикалок, точно знающих как правильно жить. Текущие же в это время социальные перемены только подогревали юношеский максимализм переросших CMCок, подводя его уровень к той черте, за которой последует взрыв. Но на счастье старшего поколения и более спокойных молодых понек, перед юными бунтарками в эту пору открылись обширные перспективы недавно открытых и еще никем не занятых земель: грезящие варварскими идеалами молодые наивности двигали на Дальний Юг, а не ставящие ни во что родство юные идеалистки устремлялись на Окраинные острова. И вот эти, не желающие даже слышать о роде и племени, поньки прибывали на острова, где уже имелись точно такие же бунтарки и немногочисленные табуны оставшихся тут варварок с недавно приплывшими восточными зебрами традиционных взглядов. И тут же перед юными революционерками становился целый ряд проблем, сводящийся к одному вопросу: «Как организоваться?» Ведь, для того, чтобы и прокормить себя, и как-то обустроиться, и, кх-м, продолжить род кобылке нужна была помощь других лошадок. А потому, новоприбывшим поняшкам приходилось поступаться идеалами и сходиться в небольшие семейки близких подруг – так называемые “кунди”. Кунди островных зебр во многом напоминали названные семьи (“табунчики”) остальных бескрылых пони: это были семейные объединения неродственных друг другу подруг, совместно ведущих хозяйство, делящих друг с другом жеребцов и сообща растящих жеребят. Но были и различия. Во-первых, родство в кунди считалось не по матери, как в классических “табунчиках”, а по семье — все кобылки в кунди одновременно считались матерями всем жеребятам семьи, со всеми вытекающими из этого обязанностями и родственными связями уже между жеребятами. Это было обусловлено как огромным притоком свежей крови с материка, делающим постоянный дотошный контроль за степенью родства необязательным. Так и необходимостью укрепления связей внутри семьи между не самыми покладистыми полосатыми поняшками. А что лучше жеребят может заставить склочных (только такие туда и плыли) кобыл считаться друг с другом и искать компромиссы во взаимоотношениях? Во-вторых, островные зебры и не думали объединяться во что-то похожее на классические понячьи табуны, почитая такие связи обременительными для себя. Вместо этого кунди объединялись в не слишком сплоченные общины – джами. Джами представляла из себя общину полосатых пони, обладающих общим правом собственностью на часть возделываемых земель, управляемую посредством схода глав всех своих кунди. В общем, если не рассматривать отсутствие между зебрами общины прочных родственных связей, то даже в имущественном и управленческом плане джами был лишь бледной тенью полноценного табуна. Что создавало островным зебрам огромные проблемы. В том числе, и во взаимоотношениях с жеребцами. https://i.imgur.com/GcpOH7K.jpg Кстати, о взаимоотношениях кобылок кунди и сильного пола. Отказ островных зебр от института табунов (хоть и не такого могучего, каковым он был в варварские времена) больно ударил по слабому полу. Община-джами, в отличие от настоящего табуна, не принимала никакого участия в вопросах продолжения рода и воспитания потомства — все свои проблемы с жеребцами и жеребятами кобылкам приходилось решать в пределах семей-кунди, которые были довольно слабо связаны между собой. И если со своим потомством кобылки как-то справлялись, то сильному полу было оказано такое послабление, которого он не видел даже в период дикости. Само собой, жеребцы стали наглеть, во всю пользуясь невозможностью понек договориться между собой и призвать сильный пол к порядку. Более того, ситуация осложнялась еще и тем, что жеребцов откровенно не хватало. “Бродячие хвосты” зачастую не имели возможности перебраться на Окраинные острова, мастеровые жеребцы не видели в этом смысла, а “беззаконные хвосты”, околачивающиеся везде, где пахнет наживой, беззастенчиво пользовались незавидным положением кобылок, бессовестно обирая и шантажируя их. Причем, местная рождаемость не могла компенсировать недостаток сильного пола, ввиду крайне быстрого освоения новых земель и огромного притока поняшек-переселенок. В итоге, в поселениях островитянок-земледелиц формировался очень интересный порядок взаимоотношений между полами. Жеребцы-“бродячие хвосты” теперь присоединялись к общинам на своих условиях, которые были весьма разнообразны, но которые всегда содержали два обязательных пункта: во-первых, жеребец находился на полном содержании общины, и, во-вторых, исчезало право кобылок на чпок – жеребец теперь сам выбирал кого, когда и как часто крыть, сообразуясь лишь со своими желаниями. В общем, сельские поньки-островитянки в вопросах продолжения рода оказались в совершенно униженном состоянии, которого не знали даже пегаски — островные жеребцы, почувствовав слабость кобылок, с удовольствием самодурствовали и тиранили их, отрываясь на попавших в глупое положение поняшках за все столетия своих унижений. Правда, как можно сказать с высоты послезнания, эта мужская вольница в первую очередь вредила самим жеребцам. Лишенные конкуренции и стимула к самосовершенствованию в виде необходимости казаться как можно более желанной парой для противоположного пола, поня клали хвост на ремесла, что вело к деградации их социальной роли до простых источников семени. Отношение кобылок к местным жеребцам становилось соответствующим: их презирали. И это среди безрогих! сильный пол которых на материке собственным упорством и трудом выбил себе не последнее место в понячьем обществе, а на пути “из земнопони в единороги” даже заграбастал власть. Приезжие “беззаконные хвосты” также были не против извлечь для себя выгоды из сложившегося положения. Ватаги полосатых проходимцев всех мастей умудрялись не только втридорога драть за службу с городских понек, но и “подхалтуривать” по всем соседним общинам земледелиц. Тем еще раз подтверждая мнение островных кобылок о континентальных жеребцах как о наглых, беспринципных и жутко жадных пройдохах, готовых ради битов на все что угодно: даже, цинично торговать своею “священной обязанностью” (уж в этом вопросе кобылы были едины по всей Эквестрии) и наживаться на бедах поняшек. Но это же раскалывало сильный пол Окраинных островов. Островитяне были недовольны тем, что кобылицы постоянно сравнивали их с заежими понями (и сравнение это было не в пользу аборигенов), при возможности предпочитая им заморских жеребцов. Континентальные же поня презирали островных товарищей по полу, не без основания видя в них бездельников и деградантов, и предпочитали дел с ними не вести. https://i.imgur.com/NAQhFAm.png В это время на островах произошло отделение ковенов от земледелиц. Разобщенные и склочные островные кобылки-землепашицы зачастую не желали объединять усилия даже в пределах общины, не говоря уже о чем-то большем. Консервативные же и довольно прагматичные ковены не хотели подстраиваться под “дур, живущих каждая в своей глупости” и раздрабливаться на такие же несплоченные группки. Вместо этого они начали потихоньку отдаляться от селянок, ограничиваясь только деловыми контактами с ними. Чему способствовало и широкая востребованность услуг ковенных пони среди мореплавателей. Также ковены усиливали свою внутреннюю дисциплину, признавали возможность внутриковенных семейности и родства, а новопришедшие в ковены пони, число которых с течением времени все уменьшалось, должны были отказываться от своего прежнего родства и считать родней своего учителя и ее/его родственников. В результате этого внутри ковенов появлялись настоящие семьи с системой родства по типу материнской семьи. Приток же поняшек из селений постепенно сходил почти на нет, и ковены переходили к самоподдержанию за счет внутренней рождаемости. В общем, путь ковенных зебр Окраинных островов более, чем напоминал путь волшебниц Единорожьих равнин. Кстати, стоит сделать небольшое отступление и сказать, что, в связи со своеобразным соотношением полов на Окраинных островах и вызванных этим проблемами, местные ковены делали исключение, и разрешали жеребцам оставаться в семьях. При этом, те формально считались кобылками. И, да, эта практика создала огромную головную боль для историков: наличие двух матерей и ни одного отца серьезнейшим образом затрудняет точное установление личности ряда исторических деятелей родом с Окраинных островов. Так, до сих пор не понятно то, были ли Нвези и Селини одним лицом или двумя разными пони. Не говоря уже о паразитах-конспирологах, утверждающих, что за этими именами скрывается принцесса Луна, якобы тайно вмешивавшаяся в жизнь пони Эры Дисгармонии. Существенно иначе дела обстояли в городах Окраинных островов, появившихся первоначально как перевалочные и торговые пункты для поселенок, связывающие их морем с материком. Как правило, основывали портовые городки варварки и табунные переселенки, которым вполне хватало организованности высадиться на голом берегу и построить самодостаточное поселение, прокладывая тем дорогу юным бунтаркам со всех полосатых земель. Большая часть прибывающих затем понек-индивидуалисток расползалась из портов по окрестностям, занимая плодородную землю островов. Меньшая же их часть оставалась в городке, возделывая землю вокруг него, а более промышляя различными связанными с морем и ремеслом работами. Со временем городки росли, постепенно превращаясь в настоящие торговые города, становившиеся de facto жизненно важными торговыми центрами для окружающих поселений земледелиц, а потом и предлагая им покровительство. Управление в этих прибрежных городах осуществлялась очень интересным образом — через принятие решений наиболее богатыми и влиятельными семьями горожанок, которыми, обычно, были табуны традиционных переселенок и бывших варварок (в силу своей организованности, легко оттеснявшими полосатых понек из общин-джами), а также сильнейшими из банд “свободных грив” (о них ниже). При этом, никаких органов власти в городах официально не существовало, а вся власть богатых семей и “свободных табунов” в этой вольнице держалась на их авторитете и умениях одаривать союзниц и накручивать хвосты противницам — формальных подпорок в виде верований, закона или традиций у нее не было. Связано это было с тем, что краткая и бурная история появления островных городов не дала возможности сформироваться институту граждан, а, соответственно, и традициям внутренней власти в городах. А потому, любая понька, только ступившая на пристань, могла смело называть себя горожанкой. Военное дело Окраинных островов https://i.imgur.com/itVCzPY.jpg Отсутствие сильной власти, раздробленность общества и защищенность морями сделали военное ремесло Окраинных островов весьма самобытным. Основными формами ведения войн были пиратство и грабительские набеги на прибрежные поселения, а государственные армии отсутствовали как явление. Все вооруженные силы на окраинных островах были либо общинными, представленными ополчениями каждой отдельной общины-джами, либо ковенными “ведьмами”, либо частными, нанимаемыми отдельными “ростками”/общинами, или находящимися “на самообеспечении” и представленные двумя большими, но зачастую с трудом различимыми типами: “беззаконными хвостами” и “свободными гривами”. Ополчения джами, в силу слабой сплоченности самих общин, не представляли из себя серьезной военной силы и существовали только ради самоуспокоения поселенок. Тем более, что джами редко приходилось защищаться самим — любая община островных земледелиц находилась под покровительством или города, или очередной пиратской шайки. Так что, войны за селянок происходили без их собственного участия: земледелицам лишь приходилось признавать нового покровителя и менять знаки на площадном шесте. От грабежей более-менее сплоченной банды поняшки-селянки также не могли защититься ополчением, предпочитая не сопротивляться грабежу, а взывать к помощи своим покровителям. Кстати, в отличии от излюбленного романистами образа, покровители земледелиц очень живо реагировали на их вопли о помощи, высылая войска и организуя засады против обнаглевших грабителей. И дело тут было даже не в экономическом ущербе от таких грабежей, сколько в принижении ими “крутости” поняшкиных покровителей. Да, среди зебр Окраинных островов вовсю процветало понятие “крутость”, которое более привычно видеть в Эру Гармонии среди грифонов и пегасов. И, да, островные зебры реагировали на ее уязвление ничуть не более спокойно, чем современные пернатые жители Грифоньей империи. Правда, Небесное племя к “крутости” островных зебр совершенно никакого отношения не имеет: “крутость” появилась на островах из прагматических посылов — если нет ни закона, ни обычая, то полагаться остается только на репутацию. Вот она-то и была зебрячьей “крутостью”: к банде с репутацией сильных и справедливых земледелицы пойдут сами, а из-под покровительства “слабаков и предателей” сбегут как ты их ни удерживай. “Ведьмы” как и на континенте были частью ковенов, подчиняясь их главам. В островных ковенах в “ведьмы” набирали тех учеников, которые не демонстрировали особых успехов в основном ковенном ремесле. Что касается тактики, манеры боя и вооружения “ведьм”, то они были сходны с таковыми материковых коллег. “Беззаконные хвосты” в этих местах были преимущественно пришлыми с континента пони и практически во всем оказывались аналогичны своим коллегам на материке, отличаясь лишь в деталях: частым наличии плав.средств и гораздо более кобыльим составом. Впрочем, нередко “беззаконные хвосты” вливались в нестройные ряды “свободных грив”. “Свободные гривы” — “свободные пони, живущие свободными табунами по своему Закону”. То есть, авантюристки, не состоящие в табунных или каких-либо еще тесных родственных отношениях, и работающие только на себя в составе так называемых “свободных табунов”. “Свободный табун” — банда “свободных грив”, в рамках которой последние осуществляли свою профессиональную деятельность. “Свободные табуны” управлялись по принципам прямой демократии, а власть выбранной общим голосованием главаря держалась только на ее личной “крутости” и “Законе”. Не смотря на создавшиеся стереотипы, не стоит считать, что все “свободные гривы” были пиратками. Хотя, конечно, все они были авантюристками вполне определенного склада. Кроме пиратства обычным занятием “свободных грив” были торговля, найм на военную службу к богатым семьям Окраинных островов или к континентальным пони и организация колонизации островов. Что касается последнего, то наиболее распространенной практикой было следующее: “свободные гривы” закладывали портовое поселение, организовывали доставку колонисток, охрану и помощь им в освоение новых земель, за что те выплачивали своим покровительницам определенный оброк. Как правило, подобные договоры заключались на ограниченный срок, но к моменту его истечения банда “свободных грив”, контролирующая материнское поселение, успевала заключить множество новых договоров с поселенками. Небольшое отступление: Общество “свободных грив” https://ficbook.net/readfic/12819458/35316257#part_content Основу военных сил различных пиратских и торговых республик Окраинных островов составляли “свободные гривы”. Остальные же типы вооруженных формирований сильно отставали от них либо по численности (“беззаконные хвосты” и “ведьмы”), либо по боеспособности (ополчения). Вооруженные силы на Окраинных островах рассматривались в первую очередь как флот. Что обусловило обычную для этих мест их организацию: основными тактическими единицами были “лодка” (судно прибрежного класса с командой) и “вымпел” (судно морского класса с командой), объединяемые в “компании подруг” — подразделения непостоянной численности, находящиеся под командованием одного главаря. При необходимости, “компании подруг” могли объединяться в более крупные флоты, где управление осуществлялось по примеру “свободных табунов”. То есть, демократическим путем через прямые выборы вожака главами “компаний подруг” и в согласии с “Законом”. В основе морского боя лежал абордаж (копытный лук еще не добрался до этих мест). Сухопутный бой рассматривался как второстепенный, а, соответственно, воительницы без собственного судна расценивались как второсортные. Бойцов Окраинных островов можно рассматривать как легкую понилерию ближнего боя. Но стоит упомянуть несколько новшеств в их арсенале, продиктованных преимущественным ведением боя на воде. Бой островным зебрам приходилось вести в очень стесненных условиях, так что из их арсенала исчезли чеканы, клевцы и мечи, а топоры значительно уменьшились в размерах, превратившись в абордажные топорики. Зато на палубы стали активно перекочевывать “ковенные ножи”, несколько укоротившись (до 40-45 сантиметров), утратив дополнительные ребра жесткости и приобретя острый кончик — родился абордажный нож, которым в бою можно было как рубить, так и колоть (но гораздо хуже). Следующим шагом стало появление “палубного/абордажного жала” — короткого (до 30-40 сантиметров) обоюдоострого клинка с остро отточенным концом, которым в бою наносили колющие удары. Этот арсенал дополнялся наплечными и назапястными шипами, крепившимися к телу при помощи матерчатых лент. В тесноте палубной свалки у поньки появлялась возможность поранить соперника просто навалившись на него плечом или пнув передними ногами. Доспехи же совершенно вышли из обихода, так как на палубе только мешали, а в стремительных грабительских набегах на побережье их наличие не было критично. Стоит отметить, что данные оружейные нововведения не были эксклюзивными для островитянок и широко использовались континентальными мореплавательницами. В том числе, земнопони. Но именно в арсенале пони Окраинных островов они полностью вытеснили традиционное вооружение, которым, по-прежнему, активно пользовались жители континента. Поньгород https://i.imgur.com/ivApa61.jpg В этот период истории на берегах Моря Безрогих произошел первый широкий контакт между зебрами и земнопони. Ко времени начала активного освоения зебрами Окраинных островов земнопони успели добраться к устью реки Пельмень (конечный отрезок реки Мисси-Писси, пролегающий через одноименный Вечносвободный лес), где и основали поселение Поньгород. Поньгород, он же Поньский Град, довольно “оригинальное” название которого высмеивают до сих пор (те, кому своих зубов не жалко), очень быстро разросся на морской торговле с зебрами до очень крупного и крайне влиятельного города-государства, попутно уничтожив не смогшие конкурировать с морской торговлей караванные пути зебр, проходившие по краю Грифоньих гор. Довольно интересна история становления Поньгорода, на первых порах очень напоминавшая историю торгового пути “из земнопони в единороги”, но потом, благодаря мудрости и прозорливости поньгородцев, свернувшая на гораздо более конструктивные рельсы. Еще в ранний период варварства пони начали использовать Вечносвободные леса по берегам реки Мисси-Писси, обеспечивая древесиной и прочими их продуктами южную и восточную части равнин земнопони. Правда, забраться вглубь этих лесов и наладить действительно масштабную добычу даров леса им не позволяло отсутствие транспортных магистралей, а именно крупных рек, уходящих вглубь лесов. Но со временем спрос на лесные товары рос, повышая тем выгодность их добычи, которая, все равно, оказывалась недостаточной. Это привело к тому, что в раннецивилизационный период истории сразу несколько родов земнопони, пользуясь рекой Пельмень, попробовали углубиться в Пельменный Вечносвободный лес. Что у них получилось, обеспечив этим родам экономическое процветание, за которым последовал настоящий бум освоения Пельменного Вечносвободного леса. Пони быстро обжили берега реки, основав множество поселений, в том числе и Поньский Град. Быстро выяснилось, что через Поньгород, находящийся на берегу Моря Безрогих, можно наладить торговлю с полосатыми южанками, что еще более оживило движение торговиц по Пельменю и способствовало росту города. За добытчицами и торговками, само собой, устремилась веселая братия “беззаконных хвостов”, потихоньку приводящая эти места к состоянию бардака, творящегося на пути “из земнопони в единороги”. Но условия тут уже были совсем иные, чем на приснопамятном торговом пути — осваивали Пельменный Вечносвободный лес цивилизованные пони, а не дикарки. Так что, земнопоньки достаточно быстро сплотились вокруг сильных плеч Поньгорода, объявив ему о своей верности и потребовав у него защиты. Ответом поньгородцев вольнице “беззаконных хвостов” стала политика “тяжелого кистеня и медового пряника”. С одной стороны, по всему протяжению Пельменя выросли поньгородские заставы, а сама река патрулировалась их лодьями. С другой же, Поньский Град принимал всю эту сомнительную компанию “беззаконных хвостов” с распростертыми для обнимашек объятиями: город предоставлял им широкие возможности для колонизации недавно открытых полуострова Апельсиновый и Окраинных островов, торговли с зебрами и, конечно же, пиратского грабежа полосатых конкуренток. Так на смену маячившей перспективе раздробленности и постоянного неспокойствия пришла реальность крепкого и процветающего города-государства, окруженного спокойными и небедными поселениями под его защитой. Такая история становления Поньгородской республики обусловила и весьма интересный способ управления ею. Будучи создана земнопони нескольких неродственных друг другу родов, она управлялась при помощи веча — общего сбора матерей “ростков” этих родов (“старожилые кобылы”), а также матерей других, недавно разбогатевших родов (“кошельные кобылы”). Вече принимало законы, устанавливало правила торговли и торговые меры, избирала князя и посадную кобылу. Функции князя были все теми же, что и в других землях земнопони: он отвечал за вооруженные силы и безопасность нанявшего его государства. Посадная же кобыла являлась воплощением исполнительной власти, следя за тем, чтобы решения веча претворялись в жизнь. Кроме этого, для контроля за деятельностью богатых родов, существовал сельский сбор — совет из глав подвластных Поньскому Граду поселений и районов (“концов”) самого Поньгорода. Сельский сбор мог оспорить любое решение веча, что вело к созыву дымнохвостого совета, решавшего во взаимных прениях (скорее уж, в препирательствах и скандалах) спорный вопрос. Дымнохвостый совет состоял из избранных жеребьевкой представителей богатых родов, поньгородских поселений, районов города, а также в него входил князь. Последний, правда, имел право на совете не присутствовать и в принятии решения не участвовать. Чем зачастую и пользовался, справедливо считая, что “кобылы грызутся — жеребец не встревай”. Небольшое отступление: Легенды о происхождении названия реки Пельмень и о свинке Подмышке https://ficbook.net/readfic/12819458/35316334#part_content Теперь сместимся с континента в моря. Полуостров Апельсиновый был открыт земнопони совершенно случайно: к его берегам штормом занесло корабли торговицы Рупь, которая и назвала эту землю Апельсиновой — из-за большого числа растущих тут апельсиновых деревьев. Плодородный полуостров тут же стал как магнитом стягивать к себе земнопони. Но поньгородцы, в отличии от зебр, сразу же смекнули о перспективах освоения этой новой земли, и взяли процесс под свой контроль. Это избавило земнопонек Апельсинового от целого ряда проблем, мучавшего зебр Окраинных островов. По крайней мере, в селениях более-менее поддерживались поньгородские законы, а перекос между полами был не столь ужасен. Впрочем, во многом жители Апельсинового были независимы от Поньгорода, и часто проводили самостоятельную политику во внутренних и внешних делах, регулярно по-мелкому подставляя поньгородцев. Столицей Апельсинового и основным центром влияния Поньгорода на полуострове в то время был город Цветочная Бухта, бывший первым из основанных в этих землях поселений земнопони. Военное дело Поньгорода https://i.imgur.com/V6WZWZ2.png Что касается военного дела Поньского Града, то из-за своего особого положения Поньгород имел как бы две, мало похожих друг на друга, его стороны. С одной стороны, поньгородцы активно участвовали в политических игрищах своих равнинных родственниц, что заставляло их время от времени вступать в разборки на равнинах (чего они, впрочем, всеми силами избегали). С другой же стороны, торговки-поньгородки самым непосредственным образом сталкивались с пиратством и торговыми войнами полосатых в Море Безрогих. В связи с этим, и вооруженные силы, и военное искусство поньгородцев оказывались разделены на две части: традиционную континентальную и новую морскую. И если сухопутные силы Поньгорода вполне укладывались в стандарты равнинной земнопонячьей армии (о ней речь пойдет попозже), то вот на морскую составляющую ВС Поньского Града надо взглянуть отдельно. Цели и средства ведения морских войн у земнопони были теми же самыми, что и у зебр. То есть, целью было вытеснить конкуренток с рынка, нанеся им ощутимый финансовый ущерб грабежом, и защитить своих торговиц от такой же участи. А средствами служили пиратство, как средство нападения, и организация конвоев и карательных рейдов против морских разбойниц, как средство защиты. Для организации “правильного” морского разбоя поньгородцы пользовались проверенным средством — корсарами, называемыми тут “охочими хвостами”. Формирование “охочих хвостов” было до безобразия простым: “ростки” поньгородских торговиц, попросту, снабжали средствами и заверениями в покровительстве любых проходимцев, которые клялись защищать их интересы на море. Таким путем в Море Безрогих появлялось множество корсарских банд, активно грабивших полосатых торговиц. Кстати, самих зебр в этих бандах также хватало: “свободных грив” интересовали только биты, и совершенно не волновало то, что они вредят сородичам в пользу земнопони. Но это наступательные средства, а как дело обстояло с обороной? Первейшими средствами защиты от полосатого (и не только) пиратства были нахождение охраны непосредственно на торговых кораблях и организация конвоев. И тут были новшества. Помимо “беззаконных хвостов” на поньгородских торговцах появились и дружины. Это было обусловлено изменением социального статуса семей торговиц: теперь они были не кочевницами без роду и племени, а крупными родами, костяк того Поньгорода и формирующими. Так что, теперь торгашки могли с полным правом нанимать надежных и верных дружинников. Но для эффективного противодействия пиратам требовались еще и военные флоты. Которых в Поньском Граде было аж две разновидности: республиканские и личные. Личные флоты поньгородских торговиц были представлены “городскими гривами”, обычай формировать которых земнопони переняли у зебр Восточного побережья. А вот республиканские флоты, которых было два, формировались поньгородским князем на специально на это выделенные Поньгородом и поселениями под его покровительством средства. Для пополнения этих средств существовали специальный “морской оброк”, который был обязан платить каждый “росток” на землях республики, а также “входная подать”, которую выплачивали все не принадлежащие к Поньгороду суда, входящие в речные или морские порты самого города и подвластных ему поселений. Как уже было сказано, республиканских флотов было два: Поньгородский и Апельсиновый, которые базировались, соответственно, в самом Поньгороде и в Цветочной Бухте, на полуострове Апельсиновый. Разбиение на два флота было обусловлено двумя же причинами: 1) удаленностью Апельсинового от Поньгорода, и 2) необходимостью поддерживать поньгородские порядки на вновь осваиваемой земле. Флотами командовали два помощника поньгородского князя — “корабельные воеводы”. Каждый из воевод управлял одним флотом, название которого прибавлялось к званию. Главнокомандующим над флотами был князь. Личный состав республиканских флотов набирался из дружинников (“корабельная дружина”) на обычных дружинных условиях, но с более высокой оплатой (так как, морская служба считалась тяжелее сухопутной). При этом, Апельсиновый флот обладал меньшим числом кораблей, чем Поньгородский, и к боевым операциям на море привлекался не часто, но по численности бойцов был вполне сопоставим со своим старшим братом. Что было обусловленно тем, что его “корабельная дружина” активно использовалась для несения полицейской службы и наведения порядка на полуострове. В плане вооружения “корабельная дружина” была легкой понилерией, ориентированной на ближний бой на корабельных палубах. Но, в отличие от “свободных грив”, дружинники не зацикливались на абордажном бое. А потому, специально для сухопутных операций, имели и полноценное земнопонячье вооружение, которым превосходно умели пользоваться В целом, действия поньгородских республиканских флотов этого временного периода можно оценить как эффективные: большую часть времени земнопони удавалось держать пираток у северного побережья Моря Безрогих в рамках приличий. Подводя итоги, можно сказать, что, не смотря на различия проживающих по берегам морей Безрогих и Травульви пони, в развитии их военного дела можно проследить ряд общих черт. Во-первых, все народы этого региона придавали огромное значение торговым войнам, ведшихся посредством корсаров, и пиратству. Во-вторых, существенно упало значение завоевательных войн. В-третьих, основная часть военных действий переместилась с суши на море. В-четвертых, в регионе сформировался хронический очаг нестабильности, каковым стали Окраинные острова.
