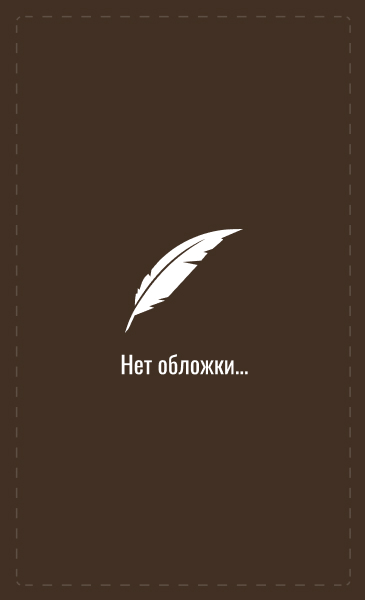
Метки
Описание
Та работа, с которой моя графомания и началась) Само собой, "Поня: Военное дело" планируется публиковать на Фикбуке в переписанном виде (так как в оригинале там так коряво, что читать невозможно), а потому печататься тут будет медленно и постепенно. Если кому невтерпеж (впрочем, а кому оно, вообще, надо-то? чай, фигня от графомана), то можно вбить в поисковик или посмотреть на "Табуне" - где-то там все (или почти все), что уже написано, есть.
Примечания
И, да, что сие фигня есьм такое: это псевдоисторическая графомания, первоначально рассматривавшая то, как у эквестрийских поняшек могло бы возникнуть и развиваться военное дело, потом активно ударившаяся (так как, автор еще тот) в альтернативную историю и сочинения за поней понячьего фольклора. Писанина не закончена (остановлена на начале 9-й главы, по табунской системе учета), и вряд ли будет когда-то закончена.
Посвящение
Мои благодарности брони MLPMihail, Dilandu, afraniy, Noncraft, Aluxor, Gedzerath, Rj-PhoeniX, DarkKnight, Rinar, SMT5015, LozoHoD, graf_leon, BusyaCipher, VIJNYL124 (вот перед ней я изрядно провинился...), Captain, MadHotaru, Limrei, Irbis, Tomty, S_Ayaal, GreenWater, Rishka, Krynnit, RaitaFoxy13, Nowhere, GL_DOS (да, тебе тоже спасибо) и другим, которых я, наверняка, забыл упомянуть и тех, у кого я без спросу попячил картинки на кривую переделку.
Глава 3 Эпоха варварства, расцвет и разложение родоплеменного строя - Грифоньи горы
11 февраля 2023, 05:21
Жители Грифоньих гор в период расцвета и разложения родоплеменного строя
https://i.imgur.com/IPXxV7C.jpg В то время, когда на равнинах единорогов, земнопони и зебр родовые отношения шли к своему пику, готовя почву для собственного крушения, а на пути “из земнопони в единороги” медленно, но верно началось слияние рогатых и безрогих лошадок, в Грифоньих горах жизнь тоже не замирала. А, значит, не стояло на месте и развитие военного дела. На Пиках https://i.imgur.com/mfFNQvO.jpg Сначала несколько слов о том, что в это время происходило на Пиках, родине пегасов и грифонов. Благо, места это займет немного. Произошедшее ранее освоение пегасами земледелия и грифонами овцеводства привело к крушению существовавших доселе межвидовых отношений и существенному обострению обычной для горцев борьбы всех против всех. В свою очередь, это резко повысило частоту возникновения вооруженных конфликтов и опасность угроз со стороны соседей для каждого отдельного табуна/стаи и для родов в целом. Что, с одной стороны, подтолкнуло дружественные рода к объединению и формированию племен. Кстати, стоит заметить, что племена в подавляющем большинстве случаев формировались из представителей одного вида: пегасов или грифонов. Это было обусловлено и чисто биологическими причинами (облегчение притока свежей крови в табуны/стаи), но в большей мере тем, что к моменту начала формирования племен межвидовые связи грифонов и пони на большей части горных территорий были уже основательно разрушены экономическими противоречиями (пегасье садоводство и грифонье овцеводство требовали одних и тех же скудных на Пиках ресурсов), а в умах варваров прочно укоренилось представление о том, что “травяные мешки”/”клювастые отродья” являются их кровными врагами, не заслуживающими пощады и сами ее не дающими. Фактически, смешанные племена грифонов и пегасов существовали как исключение только у самых границ с предгорьями и в редких благодатных горных долинках, где межвидовые отношения, ввиду более обильных ресурсов и регулярных торговых и родственных контактов с предгорными пегасогрифоньими кланами, не подверглись разрушению или подверглись ему незначительно. С другой стороны, резкий рост и без того немалого числа постоянных угроз потребовал от горцев пересмотреть систему управления делами рода — ответы требовались быстрые, решительные и последовательные. Так что, теперь во главе рода стоял военный вождь, избираемый советом вожаков пожизненно, а сам же совет выполнял при нем только совещательную и консультативную функции. Делами племени управляли совет военных вождей, принимавших решения в неотложных вопросах, и всеплеменной совет жеребцов/охотников или всеплеменной совет вожаков табунов/стай, в ведении которого были все остальные аспекты жизни племени и чье слово было выше мнения совета военных вождей. Причем, следует отметить, что совет военных вождей “управлял” военными делами племени номинально, перенося привычную им практику на племенной уровень: военные вожди родов на совете избирали военного вождя племени, который единолично и управлял всеми его вооруженными силами, а родовые вожди следовали его приказам. Что касается вооруженных столкновений, то, как и следует ожидать, масштабы и частота их выросли, но, в целом, их цели, способы и средства ведения остались те же, что и в ранний период эпохи варварства. Фактически, из-за отсутствия изменения экономической составляющей горского общества, военная мысль горцев, как и большинство остальных аспектов их социум, законсервировалась на том уровне, которого обитатели Пиков достигла в период становления родовых отношений. В предгорьях https://img2.reactor.cc/pics/post/full/my-little-pony-%D1%84%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%8B-mlp-art-mlp-OC-4693897.jpeg В предгорьях же ситуация разительно отличалась. Резко возросший спрос равнинниц на товары бескрылых поняш-горянок и грифонов, с одновременным удешевлением сообщения между равнинами и предгорьями спровоцировали настоящий демографический бум и дальнейшее расселение “бескрылок” и грифонов по предгорьям, в массовом порядке буквально выламывая молодые стаи пернатых охотников из системы пегасогрифоньих кланов и выводя новообразованые табуны “бескрылок” даже из-под призрачной возможности контроля (и грабежа) старыми кланами крылатых. Более того, в связи с резким повышением материального благосостояния плотоядных и бескрылых ремесленников, овцеводов и добытчиц, чистокровные пегасы оказались задвинут на второй план. Ибо их доходы были просто смехотворны по сравнению с доходами их когтистых союзников или столь презираемых крылатыми лошадками “грязедавок”. Конечно, свой кус со случившегося пиршества экономического роста доставался и чистокровой пегасне, но, все-таки, темпы роста их популяции не успевали за таковыми как их хищных союзников, так и их бескрылой родни. Что привело к тому, что в предгорьях сформировались две, в чем-то различающихся, а в чем-то и похожих, социальных системы: клановое государство и “договор”. “Договор” https://i.imgur.com/qwBc4ia.png Избыток “безпегасных” грифоньих стай (драконью угрозу никто не отменял) привел к появлению наряду со старыми пегасогрифоньими кланами нового вида межвидовых объединений — “договора”. “Договор” представлял из себя объединение пони и грифонов, не считавших себя родственниками по какому-то мистическому событию, но заключивших между собой “вечный” взаимовыгодный союз. Основа у этого союза была фактически идентична той, что лежала у истоков пегасогрифоньих кланов: драконья угроза. Но, в отличие от кланов, она не подкреплялась легендарно-мистической базой, а сам союз осознавался его участниками как сугубо прагматичный и полностью добровольный. Так что, взаимоотношения “бескрылок” и грифонов внутри “договора” не были столь интимно-теплыми, как это было у пегасов и грифонов кланов, но были весьма доверительными и отсутствовал тот расчетливо-эгоистичный подход, который ранее отличал отношение табунов бескрылых пони к стаям крылатых охотников. Это было обусловлено тем, что теперь грифоны не были просителями, а выступали как равный участник объединения, жизненно важный для молодого табуна и обладающий сопоставимыми экономическими возможностями. К тому же, материалом для формирования “договоров” служили потомки тех табунов и стай, которые и ранее имели длительную историю дружеских взаимоотношений: как правило, молодежь пони и грифонов, устав от “тирании” старшего поколения, отправлялась на поиски новых земель вместе, прекрасно понимая, что по-отдельности им с драконами не сжиться. Что касается овцеводства, бывшего немаловажной составляющей тех самых грифоньих экономических возможностей, то, как и ранее в предгорьях, в противоречия с интересами пони оно не вступало: у предгорных лошадок по-прежнему было достаточно плодородных земель для того, чтобы вести земледелие способами похожими на равнинные, оставляя овцам обширные “бросовые земли”. Тем более, что земледелие для жителей предгорий было достаточно второстепенной частью хозяйства, отступая перед добычей минералов и ремеслом, где наличие союзников-грифонов со значительно отличающейся биомеханикой только помогало. Географически отдалившиеся от давших им жизнь кланов и табунов “договоры”, тем не менее, так же шли к формированию племен и племенных государств. Если для грифонов этот путь пролегал так же, как и для их клановых родственников. То есть, через браки между разными грифоньими родами (об этом будет сказано, когда дойдет черед до клановых государств). То для их компаньонов-пони он был несколько иным. Оказавшиеся вдали от материнских союзов, молодые табуны, несмотря на наличие когтистых союзников, по-прежнему испытывали нужду в собственных летунах. Причем, эта нужда даже многократно усиливалась наличием крылатых союзников, которым поняшкам приходилось как-то соответствовать. По некоторым причинам (можете называть это как хотите: ревность, расчетливый эгоизм или грифонья обидчивость — суть от этого не меняется), пони этих табунов не могли обзавестись собственными “обязанными клювами”: грифоны не собирались терпеть какие-то договоры своих союзниц с любыми иными небесными охотниками. Конечно, табуны обладали каким-то количеством “полукрылок” и определенной долей пегасьей крови в жилах бескрылой части табунов. Но изначально малое число полупегасов и невозможность “освежить” их кровь с помощью чистокровных крылатых (их кланы зачастую были просто географически удалены от “договоров”) заводило прежнюю политику тубунниц относительно своих небесных родственников в тупик. А летуны были нужны, их катастрофически нехватало. Это сподвигло дикарок, ради выгоды табунов и во спасение своих крылатых дочерей от вырождения, пересмотреть собственные взгляды на принципы отсчета родства: теперь родство “полукрылок” считалось сразу и по матери, и по отцу, что создавало очень сложную, запутанную, но действенно предотвращавшую близкородственное скрещивание систему. Правда, такая система родства на корню искореняла саму идею “обязанных семей” — в рамках “договоров” никаких “обязанных крыльев” никогда не водилось, а все составляющие их рода формально считались равноправными. Само собой, новая система учета родственных связей заставляла поняшек удерживать крылатых жеребцов внутри семьи, что имело и меркантильную (при новом способе отсчета родства жеребцы сохраняли все свои табунные права), и чисто понячью (кобылки и помыслить не могли запросто так оставить одну из своих родственниц за пределами табуна, а теперь такие же взгляды распространялись и на жеребцов-“полукрылок”) стороны. Что приводило к неожиданным результатам: риск близкородственных связей возрастал, а не, как ожидали поняшки, падал. Так что, только одной этой системы оказывалось недостаточно, и, рано или поздно, но все крылатые пони и имеющие в своих жилах достаточно пегасьей крови “бескрылки” оказывались в близком родстве друг с другом. Это вынуждало понек еще раз переступить через себя, и начать обмениваться, хм, интим-услугами (сначала только предоставляемых жеребцами) с другими табунами. Но новая система родства делала всех потомков табунных “полукрылок” родственниками и всему остальному их табуну. Причем, жеребята крылатых полукровок были не только пегасами, но и бескрылыми пони. Фактически, случалось то, что дикаркам и в страшном сне присниться не могло: они становились родственницами другим дикаркам. По мере все большего родственного сближения табунов бескрылые жеребцы становились общими для них. Далее начинался обмен пернатыми кобылками, а потом и бесперыми, как будто эти табуны одна семья. В итоге, табуны осознавали себя как нечто целое, объединенное едиными родственными узами — формировался род (а горянки могли с этого момента гордо именовать себя варварками, если бы были знакомы с этим понятием). И, да, через некоторое время после этого замечательного осознания начинал действовать другой фактор: союзники-грифоны, уже успевшие самостоятельно сформировать племена. Пернатые охотники, ощущая значительную выгоду от случившегося объединения своих крылатых союзниц, пытались “подтянуть” их до своего уровня. И потому выступали в качестве самых натуральных сводников, подначивая своих союзниц-поняшек из разных родов к оказанию, хм, некоторой помощи друг другу, мотивируя это заботой о состоянии и так небогатого пегасьего генофонда родов (что было отчасти правда: грифоны, действительно, близко к сердцу принимали все дела союзных “полукрылок”). Так что, рано или поздно, но под хитрым грифоньим руководством различные рода понек породнялись достаточно для того, чтобы объединиться в виде племени. С этого момента можно было говорить об окончательно сформировавшемся “договоре”, который к тому времени, как правило, еще и имел ярковыраженные признаки племенного государства. Такие государства, обычно, руководились советом из вожаков грифоньих стай и вожачек табунов племени, которые, при необходимости, могли делегировать свои полномочия отдельным грифону и пони, совместно управлявшим “договором” во время различных чрезвычайных ситуаций (обычно таковые доверенные лица утверждались заранее, а во время ЧС только подтверждался факт необходимости временной передачи власти). Внутренними же делами племена грифонов и пони управляли раздельно друг от друга, при помощи или всеплеменного совета вожаков/вожаче, или собрания уполномоченных представителей родов. В общем, быстрота в принятии и осуществлении решений не была коньком “договоров”. Хотя, стоит отметить, что иногда племена грифонов и пони сливались на основе названного родства, и тогда формировался новый грифонопонячий клан, до боли напоминавший старые пегасогрифоньи кланы с их совместным проживанием копытных и когтистых своих представителей, интимной теплотой межвидовых взаимоотношений, совместным обучением и временной передачей потомства на воспитание союзникам (“союзные свадьбы”) и обязательной легендарно-мистической базой всего этого безобразия. Но, по сути, ничем, кроме времени образования, эти союзы от пегасогрифоньих кланов и не отличались. Так что, перейдем к кланам. Клановое государство https://i.imgur.com/BofAfFE.png Разрастание и обогащение грифоньих родов привело, с одной стороны, к усилению старых пегасогрифоньих кланов, основывавших целые родовые государства, с другой же стороны, к все более частому заключению брачных союзов между разными родами пернатых охотников, а потому и к их постепенному слиянию с формированием племен. Причем, в этих племенах ведущая роль принадлежала именно грифонам, так как слабое относительно бескрылых пони развитие земледелия и ремесел пегасов превратило последних чуть ли не в иждивенцев их плотоядных союзников. Кстати, насчет грифонов. Те же самые процессы происходили и с новообразованными стаями “договоров”. Только шли они гораздо интенсивнее, “догоняя” кланы. Это было обусловлено тем, что грифоны-основатели молодых стай происходили из старых пегасогрифоньих кланов, а потому для них эти отношения были естественны и не требовали переоткрытия заново. Одновременно происходило и усиление живущих тут же табунов бесперых горянок, которые так же разрастались численно и становились сильнее финансово, что позволяло им обзаводиться гораздо большим числом табунных “полукрылок” и “обязанных клювов”, а также приобретать (часто просто покупая богатыми подарками) крылатых союзников. Хотя, сами союзы бескрылых как целое значительно ослабли. Так как, усилившиеся табуны начали тянуть одеяло каждый сам на себя, начисто забыв об общем благе и здравом смысле. При этом, грабительские набеги и притязания пегасогрифоньих кланов на “крышевание” разбогатевших “грязедавок” никуда не исчезли, а сами кланы значительно усилились. Что делало обстановку в предгорьях очень неспокойной. Ослабление пегасов и участившиеся набеги крылатых разбойников на “защищаемые” селения “землеползок” толкнули грифонов кланов и бескрылых пони в объятия друг другу. Грифонам был нужен кто-то, кто поможет им с драконьим оброком. А бескрылые поняшки нуждались в крылатом защитнике, не погрязшем в межтабунных дрязгах. Увы, крылатых понек “обязательств” в это время было категорически недостаточно для защиты бесперых, так как с усилением отдельных табунов внутри союза бескрылых сами табуны становились все эгоистичнее и начали активно “прессовать” отстаивающих общие союзные интересы “обязанных крыльев”. В итоге, между кланами и табунными союзами заключались соглашения, сутью которых было обеспечение безопасности бесперых силами бойцов кланов в обмен на регулярную плату и право беспрепятственного перемещения по территории защищаемых союзов. При этом, и пегасогрифоньи кланы, и союзы варварок оставались совершенно независимы друг от друга — просто, имели некоторые специфические деловые отношения. Но долго так продолжаться не могло. С одной стороны, и “бескрылки”, и гриффоны вели дела с одними и теми же равнинными торговками, а потому порой конкурировали между собой в торговых делах. К тому же, отсутствие нормальных торговых договоренностей между союзами и кланами позволяло торговками ловко маневрировать и сбивать цены даже там, где никакой конкуренции и не намечалось, просто пользуясь неопределенностью в торговых делах соседей. С другой стороны, кланы, как и “полукрылки” “обязательств”, сталкивались с все усиливающейся разобщенностью союзов, табуны которых старались всячески выгадывать свой личный корыстный интерес и не слишком заботились об общих делах, подрывая тем самым союз как целое. Вот только незадача, теперь это уже наносило ущерб интересам защищающих их пегасогрифоньих кланов: чем слабее союз варварок — тем сложнее пернатым охотникам получить обещанную плату в полном объеме. К тому же, усиливавшиеся табуны стремились сбежать из ослабшего союза, мня, что жизнь в одиночку будет богаче. В общем, перед пегасогрифоньими кланами остро становился вопрос удержания защищаемых ими табунных союзов “бескрылок” от распада. При этом, сделать это ни силой оружия (табуны “грязедавок” были отнюдь не беззащитны), ни силой убеждения (никто бы пернатых и слушать не стал — глупый сепаратизм цвел и пах), ни силой традиционного права (не было никаких родственных прав у клановой братии в матриархальных табунах бескрылых пони) пегасогрифоньи кланы не могли. И тут на помощь кланам пришли “обязательства”, с которыми теперь частенько приходилось контактировать чистокровному крылатому племени. https://i.imgur.com/HmrSpbn.png Одно время “обязанные семьи” значительно усилились в союзах горянок, став практически наравне с традиционными табунами, приобретя немалые права и авторитет среди них и, даже, обзаведясь собственными стаями “обязанных клювов”. Но с приходом нового времени произошло резкое увеличение благосостояния традиционных табунов дикарок и их усиление в военном плане, что привело к неожиданным и неприятным результатам: в союзах возобладали центробежные стремления, тяжело ударившие по всем их общим делам. В том числе, и по “обязательствам”. Не желавшие тратиться на “чужие” (теперь “общее” означало “чужое”, увы) нужды, табунницы урезали расходы на своих крылатых защитников, заставляя изначально экономически несамостоятельные “обязательства” влачить жалкое существование. Такое ослабление “обязательств” провоцировало пегасогрифоньи кланы на набеги. А потому, табунницам приходилось раскошеливаться на найм бойцов других пегасогрифоньих кланов для защиты себя любимых от крылатых разбойников, что стоило им еще дороже, чем содержание “обязательств”. Зато, это не были “чужие” “обязанные крылья”, а “независимые воины” — такая вот извращенная логика. По началу такое положение дел вполне устраивало клановую братию, получавшую немалую прибыль с охраны бесперых и замечательно смотревшихся на фоне ослабших “обязанных крыльев”. Но очень скоро все возраставшие сепаратизм и эгоизм бескрылых поняш ударил и по кланам. Которым в этой ситуации пришлось искать рычаги давления на поней, позволявшие бы удержать союзы от окончательного развала. Таковым рычагом стали “обязательства”, хоть и переживающие не самые лучшие времена, но уже приобретшие кое-какие традиционные права в союзах и кровно заинтересованные в сохранении целостности шкур своих неблагодарных кровных и названных родственниц. Первыми шагами кланов стало “подкармливание” ослабших “обязательств” (развитые варварские кланы финансово уже мало походили на нищих и вечно голодных пони и грифонов, только прилетевших с горных пиков) и родственное сближение с ними (пегасы продавали за смехотворную цену или, просто, дарили “обязанным крыльям” пернатых кобылок, делились с кобылками-“полукрылками” своим семенем и, вообще, всячески старались смешивать с “полупегасами” свою кровь, а грифоны заключали браки с “обязанными клювами”). На этом же этапе, ради упрощения процесса сближения кланов и “обязательств” и из-за разницы между полигамным патриархатом пегасов и каким-никаким равенством полов “обязанных крыльев”, появилось и понятие “младшего родства” или “полупегасости” — особого рода родства между чистокровным крылатым пони и полукровкой, которое, если последний желал присоединиться к табуну пегасов и те не имели на счет этого возражений, налагало на него ряд ограничений в вопросах продолжения рода (“полукрылкам” жестко указывали партнеров и заставляли отдавать свое бескрылое потомство родственникам-полукровкам, но не запрещали продолжать свой род), но признавало все остальные пегасьи права и обязанности “полукрылки” в полном объеме. По мере выхода “обязательств” из-под материальной зависимости от табунов союзов (и подпадения под материальную зависимость от пегасогрифоньих кланов) и упрочения родственных связей пони и грифонов “обязательств” с чистокровным крылатым племенем, грифоны кланов начинали использовать “обязанные семьи” для продвижения своей центростремительной политики в союзах бескрылых дикарок. Причем, сами “обязательства”, чьи члены уже стали родственниками клановой братии, а потому к их советам прислушивались, одновременно смягчали клановую политику в отношении бесперых пони, делая ее вполне понячьей и более-менее понятной для бескрылых. Первоначально это были простейшие торговые договоренности, не позволявшие понькам-торговкам обманывать дикарок и крылатую братию. Но позже, когда родственные связи между кланами и “обязательствами” становились настолько прочными, что “обязанные хвосты” начинали считать себя естественным продолжением кланов, табуны “бескрылок” оказывались перед неприятным фактом: быстрая связь между союзными табунами и большая часть военного потенциала союза оказывалась в лапах клановых грифонов, которые теперь могли диктовать поняшкам свою волю, выражавшуюся, в первую очередь, в стремлении сохранить целостность союза бескрылых. Само собой, такое положение дел (особенно стремление грифонов сохранить опостылевшие союзы) воспринималось бесперыми пони как махровая тирания, а потому приводило к бунтам против кланов. Правда, бунтам бесперспективным: взбунтовавшийся табун игнорировал саму идею объединения с другими “бескрылками” как навязанную грифонами (хотя, это было совершенно не так) и действовал строго в одиночку, и, соответственно, не мог противостоять целому клановому племени, подкрепленному силами “обязательств”. А те практически всегда участвовали в подавлении восстаний. И, да, не от “пернатой подлости”, а для того, чтобы защитить своих глупых бесперых родственниц от гнева своей крылатой родни. https://img2.reactor.cc/pics/post/full/mlp-OC-my-little-pony-%D1%84%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%8B-mlp-art-2104400.png Формировались племенные государства с очень интересной социальной структурой. На вершине социальной пирамиды племени стояли пегасогрифоньи кланы. Причем, когда речь шла о делах вне клана, пегасы, ввиду их экономической зависимости, стояли несколько ниже грифонов и подчинялись их решениям. Далее за ними следовали пегасы-полукровки и грифоны “обязательств”, выполнявших роль посредника и буфера в одном лице между кланами и табунами бесперых. А в самом низу находились неродственные друг другу табуны “бескрылок”, профукавшие свою независимость в погоне за травой посочнее. Во главе таких государств обычно стоял совет из вожаков грифоньих родов, на котором так же присутствовали представители пегасов и “обязанных крыльев” с правом совета и наблюдения, а порой и с правом голоса. Хотя, бывало, что племенное государство возглавлялось грифоном-королем/грифиной-королевой, избираемым пожизненно или на определенный срок из своей среды все тем же советом вожаков, за которым оставались немалые права, включая и право veto с правом прекратить полномочия короля. Тем не менее, непосредственные права каждого клана в ведении своей внутренней политики априори считались выше любых других прав, а потому представители других пегасогрифоньих родов не могли сунуть свой клюв в его внутренние дела, даже если это могло принести пользу всему племени. Похожими правами обладали и “обязательства”: племя могло принимать любые решения, но внутренняя политика “обязанной семьи” всегда оставалась только ее собственным делом. Впрочем, в силу своих новых кровных связей с пегасами и грифонами кланов, родственный “обязанным крыльям” клан вполне мог сунуть свой нос во внутренние дела “обязательства”. И это не считалось чем-то предосудительным или экстраординарным: просто, кровные родичи решают свои внутрисемейные дела. И, да, точно таким же образом “обязанные хвосты” могли сунуть свои любопытные мордочки в проблемы их клановых родственников. При этом, “обязательства” по-прежнему связывали с табунными союзами дикарок традиционные договоры, кое-какие (не слишком прочные) родственные связи и то, что далеко не все “обязанные хвосты” обладали крыльями. Правда, по мере укрепления родственных уз и экономических связей с кланами, прежние связи “обязательств” с табунными союзами ослабевали. А что касается самих табунов “бескрылок”, то они так и не влились в систему племенных взаимоотношений и были разобщены даже больше, чем прежде. Так как, навязываемая грифонами идея сохранения межтабунных союзов воспринималась бесперыми поньками как неприкрытое насилие над ними, и потому любые начинания к объединению бескрылых встречались самими бескрылыми в штыки. В связи с этим, табуны “грязедавок” не имели ни малейшей возможности принимать хоть какое-либо участие в управлении делами племени, а их основной ролью в племенном государстве было быть донором различных материальных ресурсов. И, что даже более обидно, вчерашние их защитники, “обязанные крылья” (которых, правда, “бескрылки” сами до этого загнали в нищету), стали фактически полицейскими, тщательно следящими за бесперыми и мягко пресекающими любые сепаратистские поползновения табунниц. В оправдание пони “обязательств” следует сказать то, что они превосходно представляли, что сделают в случае открытого бунта с их непутевыми подопечными любые кланы, как враждебные, так и дружественные, и не хотели для глупых табунных поняшек такой судьбы. https://derpicdn.net/img/view/2017/3/13/1386141.png И пара слов о месте различных пегасов во всей этой вакханалии. С развитием торговых связей между равнинами и предгорьями чистокровные пегасы потеряли какую-либо экономическую самостоятельность внутри кланов и стали в этом плане полностью зависимы от своих хищных союзников. Что вынудило крылатых лошадок искать новую социальную нишу для себя. Таковой нишей стали роль связующего моста между кланами и “обязательствами” (большей частью составших из пони, да, к тому же, “обязанные” грифоны тоже считали себя неотъемлемой частью разношерстной “обязанной семьи”) и роль генетического резервуара для “полукрылок” (которые крайне нуждались в постоянном притоке свежей крови крылатых). Так же стоит отметить, что в это же время пегасы кланов, ввиду своей относительно небольшой численности, очень сильно сдали свои позиции в военной машине новообразованных племенных государств и теперь в бою их отряды либо подчинялись грифонам, либо придавались для усиления родственных “полукрылок”. Так что, клановым пегасам их новая роль “понимающих обязанных крылатых” была важна еще и в плане поддержания очень уязвимой пегасьей гордости. “Обязанные крылья” приобрели в новых племенных государствах гораздо больший вес, чем они когда-либо ранее имели. Их основными функциями теперь были выступать в качестве посредников между табунами “бескрылок” и пегасогрифоньими кланами, гася сепаратизм первых и приводя в более-менее понячий вид политику вторых, быть, наряду с клановыми грифонами, основой военной мощи племени, а также выступать на правах третейских судей во всех внутриплеменных конфликтах. Так же, ввиду охлаждения отношения к ним со стороны бескрылых табунниц, “обязательства” оказывались вынуждены привечать у себя (или переманивать от “бескрылок”) разнообразных ремесленников, лекарей, магов и просто бродячих поней и грифонов с какими-либо полезными навыками. Со временем это превращало “обязательства” в немаловажные для всего племенного государства центры ремесла и образования, а также в резервуары свежей крови для клановых грифонов (и, что не афишировалось, но о чем знал каждый крылатый, в место, через которое грифоны и грифины могли заключать свои брачные союзы в обход обычаев, формальных договоренностей и, даже, против воли родных кланов — авторитета “обязанных семей” на это хватало) и бесперых табунниц (которые к тому времени окончательно расскандалили между собой, а потому испытывали постоянный голод по неродственным жеребцам того же понитипа, да и по крылатым представителям сильного пола тоже — как-то надо было поддерживать численность и здоровье собственных “полукрылок” и “обязанных клювов”, что давало “обязанным хвостам” еще один мощный рычаг воздействия на своих бесперых подопечных). Что касается табунных “полукрылок” и “обязанных клювов”, то теперь их положение в собственных табунах сильно упало (оно стало куда ниже, чем у простых табунниц), а личная свобода была значительно ограниченна (особенно свобода передвижения), что делалось как ради предотвращения самовольного перехода крылатых в другой табун/стаю или “обязанную семью”, так и из-за появившегося у “бескрылок” недоверия ко всем крылатым и, просто, назло “обязанным крыльям” и клановой братии. Само собой, такое неприятное и несправедливое положение дел подтачивало верность крылатых табунчан своей семье и создавало весьма неплохие условия для их переманивания в “обязательства”. Ну, и, конечно же, крылатая часть табунов дикарок была еще одной “слабой точкой”, которую использовали для управления бескрылыми родственницами “обязанные крылья”. Изменения в военном деле https://i.imgur.com/tfniR7R.jpg Как можно заметить, новые экономические реалии в предгорьях заставили их крылатых и бескрылых обитателей в значительной мере перестроить собственный социум. Но как эти изменения повлияли на военное дело? А повлияли все эти перестройки на него весьма значительно. Причем, что характерно, в общих чертах военное дело “договоров” и клановых государств было похоже, хотя и отличалось в ряде немаловажных особенностей (прежде всего, в способах комплектования армии). Начнем с общего в их военном деле. Во-первых, стоит сказать о том, как изменились цели войн. Грабительские набеги все так же оставались наиболее частой формой боевых действий в предгорьях. Хотя, иногда (куда реже, чем на Пиках и, даже, чем на равнинах, так как расселяться предгорной молоди места еще хватало с избытком) происходили попытки согнать другой табун/стаю и занять его/ее земли для дочерней семьи. Но появились и новшества, обусловленные как раз изменившимися источниками доходов горцев — захват контроля над выгодными торговыми маршрутами и подступами к торговыми постам равнинных торговок. Каковой контроль не только способствовал значительному обогащению горцев, его осуществляющим, но и давал им немалое политическое влияние на соседей. Что, если сил для захвата не хватало, вполне логично порождало набеги с целью нанесения экономического ущерба торговым конкурентам, каковые осуществлялись посредством поджогов амбаров и складов, разорения полей, налетов на добытчиков и овцеводов за работой и т.д. и т.п. Во-вторых, в предгорьях, в отличии от равнин и горных пиков, достижение родовых отношений племенного уровня не привело к значительному увеличению масштабов военных действий. Это было обусловлено тем, что цели, ради которых стоило бы привлекать крупные силы, жители предгорий перед собой ставили редко: основным видом вооруженных конфликтов были грабительский и разорительный набеги (никто их, правда, не мешал совмещать), выгоды от которые получали отдельные рода или, даже, табуны/стаи, а не племя целиком. Так что, сбор и использование армии усилиями всего племени ради таких мелких выгод особого смысла не имел —обычные для предгорий вооруженные разборки происходили между отдельными табунами/стаями (чуть чаще) или родами (чуть реже). В-третьих, развитие ремесел привело к изменению в арсенале горцев, но об этом речь пойдет чуть позже. Теперь же время обратиться к различиям в подходе к делам военным кланов и “договоров”, которые, в основном, заключались в способах комплектования армии. “Договоры” По факту, армия “договора” представляла из себя ополчение, набираемое из грифонов-охотников и достигших определенного возраста “полукрылок”. Бескрылые пони принимали в военных действиях весьма небольшое участие, выполняя те же функции, что у них были и в прежние времена: организовывали обоз и лагерь для крылатых, а также медицинскую помощь раненным и больным воинам. Крылатое воинство разбивалось на отряды по принципу принадлежности их бойцов к той или иной стае/табуну, которые при сборе всеплеменного ополчения могли объединяться в большие формирования на основе принадлежности к определенному роду. Командиры отрядов назначались при их формировании, то есть в материнской стае/табуне, а командиры родовых объединений выбирались советом вожаков/вожачек рода. В случае если приходилось собирать всеплеменное ополчение, то для управления армией всеплеменной совет передавал часть своих полномочий паре из конкретного грифона и пони, которая и управляла армией племени. Стоит отметить, что грифоны “договоров”, происходя из пегасогрифоньих кланов, были знакомы с такой наукой как тактика и весьма ценили даваемые ею преимущества. Для сохранения и развития этой науки и ради обучения новых поколений, в “договорах” основывались “школы воинской охоты”, представлявшие из себя регулярные собрания опытных воинов и их юных учеников, где старшее поколение должно было передавать свои знания юнцам. Участие в таких собраниях считалось честью для молодых “полукрылок” и охотников и знаком признания для старших воинов, а также было вопросом престижа для табунов и стай к которым те принадлежали. Так что, “школы воинской охоты” никогда не испытывали недостатка ни в учителях, ни в учениках. Что, впрочем, не означало, что в периоды длительного мира эти собрания не превращались в посиделки старых пердунов, тягостные для молоди и бесполезные для дела обучения воинской науке. Клановые государства Подход к формированию армии в клановом государстве отличался от такового в “договорах”. Более того, он отличался и от того, что ранее использовался в пегасогрифоньих кланах. Армия кланового государства теперь состояла из двух примерно равных по военной ценности, но формируемых разными путями частей: из ополчения пегасогрифоньих кланов и из армии “обязанных крыльев”. Причем и обе части варварского воинства включали в себя как грифонов, так и крылатых пони, хотя и в разных пропорциях. Ополчение пегасогрифоньих кланов формировалось как и раньше: по первому зову вожака стаи/табуна все заслужившие звание охотника/охотницы грифоны, инициированные жеребцы и достигшие зрелости кобылки присоединялись под его главенством к ополчению табуна/стаи, которое потом вливалось в управляемое военным вождем ополчение рода. А при необходимости, родовые ополчения могли объединяться в племенное ополчение, находящееся под началом короля/королевы (если таковые в племени были) или назначенного советом вожаков командира. Армия же “обязанных семей” была, по факту, регулярной, комплектующейся из полупрофессиональных воинов-“обязанных крыльев”, обязанных к несению военной службы по факту рождения. На самом деле, структура “обязательства” (как и структура кланового государства вообще) крайне напоминала структуру сословного общества, каковое сходство только усиливалось с течением времени. Потому-то социум клановых государств тихо и незаметно, не ознаменовав это событие какими-либо громкими потрясениями, перетек из варварского в цивилизованно-сословный. Но вернемся к армиям “обязанных крыльев”. По достижению определенного возраста “полукрылки” и грифоны “обязательств” приписывались к постоянным отрядам, в которых, под началом командира из их же среды, и протекала вся их жизнь. Командиры отрядов подчинялись непосредственно главе “обязательства”, который уже отвечал перед советом вожаков своего рода и племени, а в военное время подчинялся назначенному ими командиру или королю/королеве кланового государства. Таковая структура делала армии “договоров” очень эффективными, мобильными и удобными в использовании в любых политических условиях. Чем и пользовались клановые государства, используя всегда готовые к действию силы “обязательств” гораздо чаще, чем клановые ополчения. Правда, стоит отметить, что сами “обязанные крылья” вовсе не были против подобной практики: она значительно усиливала авторитет бойцов “обязательств” в военных вопросах и, соответственно, подрывала в этих же вопросах авторитет самих кланов — чаще занимали командные посты в родовых/племенных ополчениях так же “обязанные крылья”. Что касается табунов “бескрылок”, то их собственные вооруженные силы всячески затирались кланами и практически никогда не входили в армию кланового государства. Одновременно они подвергались массированной агитации со стороны “обязанных семей”, стремившихся переманить к себе табунных “полукрылок”, “обязанных крыльев” и талантливых ремесленниц. Также стоит отметить, что в клановых государствах сформировалась, активно развивалась и достигла немалых высот тактика ведения боя как наука. Первоначально ее совершенно независимо друг от друга развивали как пегасогрифоньи кланы, так и “обязанные семьи”. Но достигнув определенного уровня близости во взаимоотношениях, клановая братия смогла сравнить уровень и темпы развития этой науки у себя и в “обязательствах”, после чего практически все племенные государства переходили к своеобразному разделению труда: первоначальную воинскую подготовку молодые грифоны и пегасы получали в своих стаях и табунах у своих старших родственников и копытных/когтистых союзников, а дальше способные отправлялись на обучение к “обязанным крыльям”, где уже получали системные знания о тактике и организации воинского дела. И, да, каких-то конкретных сроков и частоты обучения не было — все зависело от успехов обучаемого и мнения его учителей. Что касается наземных сил, то в противоречие современным обывательским представлениям, они у клановых государств были. Но, как и в “договорах”, выполняли сугубо вспомогательные функции, в бой не стремясь. Правда, стоит заметить, что, по сравнению с “договорами” наземные силы клановых государств были очень малы и варварские воинства всегда испытывали их дефицит (поняш бескрылых табунов к военному делу старались не привлекать). А так же то, что бескрылыми эти силы не были: если “обязательства”, действительно, формировали обозные силы из своих бескрылых членов, то в кланах таковых не было – их “тыловики” представляли из себя непригодную к бою молодь, проваливших посвящение в охотники грифонов и недостаточно крупных крылатых кобылиц под предводительством очень небольшого числа уважаемых и ответственных пернатых (часто, тоже непригодных к сражению в силу возраста или былых травм). Изменения в арсенале жителей предгорий https://i.imgur.com/tXaMhWp.jpg Конечно же, изменившаяся экономическая ситуация вкупе с совершенствованием ремесел наложили свой отпечаток на военное дело горцев не только в стратегическом плане, но и внесли коррективы в их арсенал. Наиболее важное новшество, значительно повлиявшим на способы боя и арсенал всех жителей предгорий, стало то, что грифоны наконец осознали необходимость массового использования в бою чего-то помимо своих когтей и клювов и, более того, смогли воплотить это осознание в жизнь. Нет, глупцами птицельвы никогда не были, и прекрасно понимали, что металл куда крепче их природного вооружения и куда лучше него справляется с чужой плотью. Но ранневарварское хозяйство крылатых банально не вытягивало оснащение каждого небесного воителя чем-то для нанесения добра и пользы ближнему своему — вооружение-то одних только пегасов откровенно примитивными пегасьими кортиками было большой проблемой для только прилетевших в предгорья переселенцев. Так что, грифоны, за очень редким (и уважаемым) исключением, обходились тем, с чем появились на свет. Но время текло и времена менялись: развитие торговли и ремесел в описываемый период времени превратило предгорья Грифоньих Гор в одну огромную ремесленную область, где когтистые и рогатые умельцы каждый день производили просто огромное количество всякой всячены для готовых щедро платить за нее равнинных пони. Само собой, такое развитие производительных сил не могло не привести к тому, что грифоны-воители наконец-то обзавелись тем, на что уже давно облизывались. Ну, а так как пернатые хищники жили бок о бок с понями, давно изобретшими и активно использующими различное вооружение, то и изобретать ничего не понадобилось — оказалось достаточным взять наиболее пригодное из понячьего арсенала. Первым из этого “наиболее пригодного” оказались единорожьи копья и дротики, которые грифоны могли очень удобно удерживать в своих передних, хватательных, конечностях. И, да, собственные, грифоньи, дротики и копья забыты не были, но эти легкие и лишенные металлических наконечников изделия так и остались хозяйственным инструментом, который ни один грифон даже не думал рассматривать как боевое оружие. Итак, позаимствовав у единорогов копья, грифоны принялись за подгонку нового приобретения под себя: 1) грифоньи копья стали несколько длиннее единорожьих аналогов (до 120-130см в длину), что было обусловлено большими размерами крылатых охотников, 2) к тупому концу копья всегда крепился ремень, заканчивающийся петлей — надевая эту петлю на лапу, грифон получал гарантию того, что копье не будет потеряно, если он случайно его выронит, 3) наконечник грифоньего копья, как и у единорогов, был крупный листовидный, но затачивался по краям так, что им можно было не только колоть, но и рубить (с учетом хорошей подвижности грифоньих передних конечностей и плохой защищенности большинства предгорной дичи и потенциальных противников, кроме драконов, это было существенным преимуществом), 4) хотя, существовали так называемые “чешуйчатые копья/драконьи шила”, которые отличались от общепринятых длинными и узкими гранеными наконечниками, обладающими очень высокими проникающими способностями — их применяли в бою с зарвавшимися представителями драконьего племени. Ввиду гораздо худшей опоры крыльев на воздух, чем ног на землю, копья грифоны удерживали сразу обоими передними лапами (лишь немногие были способны полноценно орудовать копьем при помощи только одной конечности), что негативно сказывалось на маневренности грифона. Это и оставило нишу для когтевого боя и боевых когтей, о которых речь пойдет ниже. Какие же плюсы давали крылатых охотникам копья, если ради них они готовы были жертвовать своей маневренностью? Во-первых, это была значительно возросшая дистанция угрозы: выпадом копья грифон мог поразить оппонента задолго до того, как тот имел возможность подойти на дистанцию атаки когтями или кортиком. К тому же, копье позволяло налету поражать наземные цели, что активнейше использовалось на охоте и при охране овечьих отар. Во-вторых, копья наносили гораздо более опасные раны, чем когти или клювы: укол широким листовидным наконечником мог легко повредить крупные сосуды или внутренние органы, а если он приходился на грудь или конечность, то снятие целого пласта живых тканей с костей и последующее кровотечение тоже легким ранением не назовешь. То же касалось и рубящих ударов, наносивших значительный ущерб конечностям пегасов и грифонов, и даже способных перерубить кости крыла (менее прочные грифоны особенно страдали от этого). В-третьих, копья, особенно “драконьи шила”, обладали весьма солидной проникающей способностью, что было актуально в бою с массивными и тяжелобронированными драконами (хотя подвижность там тоже была не лишней — дракон только выглядит медлительным и неповоротливым) и крупными предгорыми хищниками такими, как орфы, толщина чьей шкуры делала нанесение существенных ран одними лишь когтями делом весьма нетривиальным. В-четвертом, при должном навыке копьем можно было отражать удары, наносимые таким же оружием. https://img2.reactor.cc/pics/post/full/my-little-pony-%D1%84%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%8B-mlp-art-mlp-OC-1040607.png Правда у копий, помимо ухудшения маневренных качеств грифона, был и еще один недостаток — они плохо годились для боя на земле: даже если грифон бы как-то исхитрился орудовать этим оружием лишь одной лапой, то опора только на три конечности лишила бы его львиной доли подвижности, да и назвать такое положение устойчивым было бы сложно. Впрочем, когти и клювы тоже были не лучшим оружием для атаки готовых к обороне противников, твердо стоящего на своих четырех. И тут оказывалось кстати еще одно заимствование у единорогов — дротики с металлическим наконечником. Первоначально единорожий дротик использовался грифонами на охоте и для охраны овечьи отар, где он давал значительную фору куда более легкому грифоньему дротику, без проблем пробивая шкуры крупных предгорных животных. Но со временем единорожье изобретение стало применяться и против бескрылых пони, позволяя грифонам точно и безнаказанно поражать своих прикованных к земле противниц. Также единорожий дротики нашел себе место в воздушном бою. Но из-за конкуренции с боевыми когтями и копьем (у которых они несколько выигрывали по практической дистанции угрозы, но с отрывом продували по вероятности попасть и наносимому ущербу, при том имея ограниченный запас ударов) оставался в нем на вспомогательных ролях, как оружие немногих, по каким-то причинам не хотящим или не могущим пользоваться общепринятым вооружением. Сам по себе, новый дротик грифонов мало отличался от своего единорожьего предка: единственной его особенностью было наличие разнообразных личных меток (раскраска, резьба, крашенные шерстяные ленты, собственные перья и т.д.), позволяющих определить охотника, нанесшего удачный удар — дань природному грифоньему честолюбию и гордости. В отличие от пегасов, грифоны не утяжеляли дополнительно свое оружие (это затрудняло бросок) и не вытачивали в нем “свистульки”, так как, по большому счету, чисто боевым оружием новый дротик не был – его куда чаще применяли для охоты, чем для боя. К тому же, небесные охотники считали непосредственное поражение цели более важной задачей, чем воздействие на его боевой дух. В общем-то, для гораздо более хладнокровных, чем пони, грифонов это суждение было верно: пронзительный свист приближающегося дротика скорее предупредил бы птицельва и помог ему увернуться, чем напугал крылатого воина. Это же было верно и для охоты: дичь нужно было бить, а не пугать. https://i.imgur.com/pZdwH2R.png ((Хотя, это сфинкс) Поне- или грифо-.)) Но, не смотря на такие внушительные новшества в арсенале, когтевой бой отнюдь не остался не у дел: копья очень ограничивали подвижность грифона в воздухе, были бесполезны на небольшом расстоянии и мало годились для боя на облаках или твердой земле. Так что, когтевой бой, как самый универсальный, оставался очень и очень популярным. Правда, и он претерпел изменения, обзаведясь мертвым посредником-оружием — боевыми когтями. Боевые когти грифонов были наследниками того оружия, которым бескрылые дикарки вооружали своих “обязанных клювов”, и представляли из себя металлические когти-накладки, крепившиеся к кисти и предплечью при помощи сложной ременной упряжи. Позже, уже сами грифоны превратили их в куда более удобные кожано-металлические перчатки, однако, в эту эпоху так и не избавившись от непростой системы ременных креплений оружия к лапам. Боевые когти существенно повышали проникающие способности удара лапы грифона и наносимый им ущерб, при том практически не стесняя бойца в движениях и позволяя ему пользоваться копьем или дротиком не снимая само это универсальное оружие. Не отставали и средства защиты. В это время продолжили совершенствоваться техники уклонения и отражения ударов налапниками, появились техники парирования ударов, позволявшие копьем или боевыми когтями отражать вражеские выпады. “Холмовой” налапник полностью вытеснил из обихода своего классического предшественника, при том и сам претерпев немалые изменения. Произошло разделение на “мягкий” налапник, на который нашивались полосы металла или плотной кожи, и “жесткий” налапник, изначально выковывавшийся из металла в виде браслета и обшивавшийся изнутри кожей, а на лапе крепившийся при помощи специально приделанных кожаных ремешков. Последний или ковался сразу на владельца, или подгонялся по размеру силами кузнеца, одновременно не только обеспечивая защиту, но и являюсь опорой для более надежного крепления боевых когтей. Появление у крылатых пони привычки атаковать грифонов ударным оружием (о чем ниже) вынудило крылатых охотников искать способы защитить свое тело (ну, или, хотя бы, только голову) и от него. Что привело к появлению и повсеместному распространению среди грифонов разнообразных шлемов (большей частью, обтекаемых форм). В основном это были войлочные или кожаные с войлочной подкладкой конструкции, но и металлические (часто с полумаской) с кожаным или войлочным подшлемником не были редкостью. Грифоньи шлемы, как и их оружие, обычно носили личные метки воинов и нередко имели собственные имена. Также предгорные грифоны и пегасы для защиты от кортиков и когтей могли носить жилеты из плотной кожи. Правда, их защитные качества при не таком уж и малом весе оставляли желать много лучшего, почему даже в племенах, их активно использовавших, всегда было немало бойцов, не признававших этот вид личной брони. https://i.imgur.com/Gg18Yma.png Само собой, массовое освоение грифонами оружия потребовало от копытных летунов каких-то ответных мер, дабы не отстать. Таковой мерой стало перенятие у все тех же единорогов малого щита и приспособление его под нужды крылатых пони: щит уменьшился в размерах (до 20-25см) и приобрел крепежные петли. Так появился пегасий или копытный щит. Как уже было сказано, это был небольшой щит, набиравшийся из одного слоя относительно толстых досок (6-8мм толщиной), оковывавшихся по краям металлом и часто усиливавшийся крупным металлическим умбоном по центру (им было удобно отводить в сторону копья и наносить удары чувствительным к такому делу грифонам). Щит закреплялся на левой ноге пегаса при помощи кожаных петель на его обратной стороне, причем одна из петель (самая крупная) всегда пропускалась по нижней поверхности копыта (это и дало название щиту), что повышало надежность крепления и позволяло пегасу худо-бедно опираться на левую переднюю ногу, когда он не был в полете. В бою копытный щит всегда применялся в паре с пегасьим кортиком, позволяя подобраться к грифону-копейщику на такое расстояние, на котором кортик мог бы быть пущен в ход. Само собой, пони старались применять щит не только против копий, а вообще везде, где он мог сохранить их шкуру целой, что породило целый ряд весьма развитых школ владения копытным щитом. Правда, стоит заметить, что щит заметно ухудшал летные качества пегаса, и так сильно отстававшего от грифона по большинству важных для воздушного боя параметров. Новые взаимоотношения между “полукрылками” и грифонами привели к тому, что теперь любая армия в предгорьях имела в своем составе изрядное количество как копытных, так и когтистых бойцов. А это, в свою очередь, позволило ударному оружия (мягко скажем, бесполезному против разноцветных лошадок) пережить своеобразный ренессанс: появился такой наследник первобытного “каменного копыта” как накопытник-кастет. Сам по себе накопытник-кастет представлял из себя неровную с рабочей стороны металлическую пластину (“копыто”), крепившуюся к опорной поверхности копыта пони при помощи обвивающихся вокруг пястья и закрепляющихся чуть выше лучезапястного сустава ремешков (хотя, некоторые безбашенные крылатые пони, в основном из чистокровных пегасов, могли приколачивать их к собственным копытам гвоздями). В целом, размеры и форма накопытников-кастетов могла быть самой разнообразной: от напоминающей земные лошадиные подковы до самой настоящей обуви со сплошной подошвой из металла. Применялось это пополнение арсенала как чистокровыми пегасами и “полукрылками”, так и бескрылыми пони, но совершенно по-разному и для совершенно разных целей. Пегасы и “полукрылки” одевали накопытники-кастеты на задние ноги, и в бою старались лягнуть противника-грифона, что позволяло быстрее и безопаснее уйти после неудачной атаки кортиком (пегас переворачивался в воздухе через голову или через круп, и лягал задними ногами свою жертву, что наносило какой-то ущерб и ошарашивало ее, а самому пегасу сообщало дополнительное ускорение) или сбросить преследователя с хвоста (получив копытами по клюву, грифону было сложно сразу же продолжить преследование, если он, вообще, оставался боеспособен). Чем сильнее был удар — тем больший ущерб наносился противнику. Так что, среди пегасов этим оружием пользовались в основном жеребцы и самые крупные из кобылиц, тогда как прочие крылатые лошадки предпочитали не обременять себя малополезным грузом. Что касается “бескрылок”, то для них накопытники-кастеты настоящим оружием не были: они не могли (да и не хотели) драться с грифонами, а против самих же понек проку от него было чуть (как, впрочем, и желания по-настоящему воевать с другими “бескрылками” не отмечалось). Но, зато, это было просто превосходной средство для выяснения отношений! Удары накопытниками-кастетами очень болезненны (особенно, если знать, куда бить), оставляют долго держащиеся синяки и, при том, были практически неспособны всерьез поранить поньку — лучшего средства для наказания соседских стервозин или для жеребячьей свалки вдали от родительских глаз и не придумаешь! Ну, и “в бою” бескрылые пони использовали кастет своеобразно: он крепился к правой передней ноге, а для нанесения удара понька привставала на задних ногах и замахивалась правой передней, после чего наносила удар. Кстати, что забавно, именно дуратское применение накопытника-кастета бескрылыми позволило этому оружию заинтересовать грифонов, которые и превратили его в грифоний кастет. Последний существовал во множестве форм, мало отличался от своего земного аналога (ну, если не считать того, что был приспособлен под меньшее количество пальцев) и настоящим оружием не считался — для боя у грифона были когти. Вместо этого он рассматривался пернатыми охотниками как “инструмент подлецов”: средство, которым можно лишить другого грифона сознания, или намять ему бока без пускания в дело кое к чему обязывающих когтей. В общем, наличие кастета у грифоньей молоди или у какой-нибудь непутевой личности вопросов у прочих охотников не вызвало бы (в отличие от осуждения), а вот уважаемому птицельву лучше с этим оружием было не связываться. Или заготовить очень убедительные объяснения для сородичей. https://img2.reactor.cc/pics/post/full/my-little-pony-%D1%84%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%8B-Sunshower-Derpy-7283410.jpeg В это время никуда не делось и старое оборонительное оружие “полукрылок”. Крылатые потомки зебр все так же травили преследователей различными агрессивными зельями, а “цыплята” раскидывали за собой легкие сети из поньского волоса и применяли арканы. Ну, и, конечно же, на своем законном месте основного оружия крылатых лошадок остался пегасий кортик. Хотя, в связи с общим экономическим и ремесленным подъемом в предгорьях, он теперь был только металлическим и только монолитным, не разнимающимся на клинок и держало. К тому же, часто богато и со вкусом украшался — теперь крылатые могли позволить себе вволю повыпендриваться. Теперь пара слов об одном, очень своеобразном, оружии, применявшемся только крылатыми потомками земнопони – цыплячьем гасиле (с легкого копыта Шауку Мсафири, описавшей его в своем «Путешествии в земли бесполосых», ставшем известным среди бескрылых пони как пегасий кистень). Цыплячье гасило, как и хвостовой кистень земнопони, вело свою родословную от аркана, который молодые “полукрылки”-земнопоньки стали затягивать вокруг крупной гальки, дабы уравнять свои шансы против юных охотников в церемониальных боях во время Игр Посвящения и празднеств Летнего и Зимнего Солнцестояния. Новое самодельное оружие довольно неплохо показывало себя в потешных боях, оставляя молодых грифонов при любом раскладе разукрашенными как елка. А потому, “полукрылки” стали на полном серьезе задумываться о боевом применении поделок своих юнцов. Цыплячье гасило представляло из себя длинную волосяную веревку, на одном из концов которой крепилась небольшая, но тяжелая металлическая гирька (обычно, шаровидная или овоидная, с небольшими шишкообразными выступами), а второй служил для прикрепления к хвосту. За счет симметричности рабочей части (гирьки) пегасий кистень, в отличие от аркана, мог использоваться “полукрылками” как в обороне, так и в наступлении. При оборонительном бое пегас-полукровка орудовал своим оружием так же, как им пользовались дружинники-земнопони на равнинах (с учетом худшей опоры под крыльями и трехмерности поля боя, разумеется). А вот при атаке оно уже применялось по-другому: крылатый воин набирал как можно большую скорость, и, сближаясь с противником, резко отворачивал в сторону так, что его оппонент встречался с движущейся по инерции гирькой. Цыплячье гасило могло использоваться и для запутывания противника или его оружия, но этот прием не был любим, а способность оружия обвиваться вокруг цели считалось скорее недостатком, чем достоинством. Что объясняется весьма просто: запутав противника, пегас-полукровка был вынужден отвязывать гасило от хвоста, что требовало времени (а воздушный бой скоротечен) и лишало медлительного “цыпленка” преимущества в дистанции угрозы, а, значит, и в первом ударе, заставляя его сражаться по правилам более быстрых, крупных и лучше вооруженных грифонов. В целом, цыплячье гасило давало “полукрылкам” значительное преимущество в дистанции угрозы и наносило тяжелые раны грифонам, при том практически не имея отдачи в тело самого пегаса-полукровки. Все это делало пегасий кистень крайне популярным оружием среди “цыплят”, хотя, по очевидным причинам, никогда не использовавшегося как основное и единственное. И да, у чистокровных пегасов и полуединорогов популярностью он не пользовался, так как их летные характеристики были куда лучше, чем у полуземнопони/полузебр. Что еще забавно, в это время арсенал и клановых воинов, и “полукрылок” с “обязанными клювами” стал практически идентичен, различаясь лишь традициями отделки и украшения оружия. Это обуславливалось тем, что произошло весьма тесное сближение крылатого и бескрылого племени как в клановых государствах, так и в “договорах”, а также тем, что разбогатевшие грифоны теперь могли позволить себе и своим союзникам-пегасам тратиться на приличное вооружение. Интересной особенностью, связанной с вооружением опосредованно, был и один из путей, которым достигался паритет эффективности различных частей армии клановых государств. Клановые бойцы, как грифоны, так и пегасы, значительно превосходили “обязанных крыльев” в телесных дисциплинах, что обуславливалось как их образом жизни, так и традиционно жестким отбором: слабый грифон/грифина вряд ли прошел посвящение в охотники/охотницы и заинтересовал/ла бы представителей противоположного пола, слабый пегас был бы максимально возможным образом ограничен в доступе к пегаскам своими же товарищами-жеребцами (которые даже не стали бы скрывать причин, чинимых ими препятствий, прямо предлагая слабаку свалить к “полукрылкам”), а слабых крылатых кобылок, попросту и без лишних разговоров, выставили бы из табуна прямо к дружественным “обязанным крыльям”. При этом, у “обязаных крыльев” тоже был свой козырь — они, как пегасы-полукровки, так и их товарищи-грифоны, были бойцами полупрофессиональными (и чем дальше, тем призрачнее было это “полу”), обязанными всю жизнь нести военную службу и всю жизнь тренироваться для этого, что делало “полукрылок” и “обязанных клювов” гораздо более умелыми в обращении с оружием, дисциплинированными и тактически подкованными, чем их клановые союзники и родственники. https://i.imgur.com/q3UVUtW.png Кроме оружия, предназначенного для воздушного боя, в это время совершенствовалось и оружие, призванное помочь летунам атаковать наземные цели. Уже было рассказано о пегасьих духовых трубках и дротиках в прошлой главе и о дротиках грифонов чуть выше по тексту этой главы. Но на этом арсенал средств для наведения шороху среди “бескрылок” не заканчивался. В это время, благодаря значительному улучшению благосостояния пегасогрифоньих кланов и стай “договоров”, широкое распространение получили разнообразные зажигательные снаряды: сосуды с недешевым равнинным маслом или с зажигательными смесями на основе дорогой, импортируемой из болот, нефти, зажигательные снаряды из туго связанной и просмоленной соломы, горшки со смолой и т.д. и т.п. (на что хватало фантазии и средств). Само собой, такое оружие не годилось для нападения на бойцов противника. Тем более, что бескрылые воительницы не представляли реальной угрозы для крылатой братии, годясь только на то, чтобы отгонять последних от мест отдыха “полукрылок” и других важных объектов. Зато, было превосходным средством террора и нанесения материального ущербы. Как каковое оно и использовалось кланами и грифонами “договоров”: и те, и те применяли зажигательные снаряды для нанесения ущерба экономике своих торговых конкурентов, а старые пегасогрифоньи кланы еще и использовали их для подавления восстаний “бескрылок”. Помимо дорогих зажигательных снарядов, крылатые предгорий в лице “обязанных крыльев” использовали и куда более дешевое и массовое оружие, предназначенное против бескрылых пони – “копытные занозы/копытные колючки”. “Колючки” представляли собой короткие (12-16см) деревянные палочки из дешевых сортов древесины, заостренные с двух сторон и имевшие самое примитивное оперение ровно по своей середине. Данное оружие предназначалось для вразумление слишком разбушевавшегося табуна “бескрылок”, пока дело не дошло до открытого бунта и, соответственно, подавления его силами кланов. Этими стрелками “обязанными крыльями” в больших количествах набивали седельные сумки или корзины, и разбрасывали копытокинезом, зубами, клювами и лапами над владениями волнующегося табуна: стрелки втыкались в грунт так, что были плохо видимы, но могли наносить очень болезненные раны копытам бескрылых понек, которые теперь были вынуждены тратить огромные силы и время на поиск и сбор “копытных заноз”. Так что, волнения постепенно затухали сами собой. А если нет, то “обязанным хвостам” очень недорого стоило накидать еще “колючек”. Стоит сказать, что, несмотря на кажущуюся жестокость таких мероприятий, проводились они “обязательствами” из самых лучших побуждений: “обязанные крылья” предпочитали видеть своих непутевых подопечных в хижинах травниц с перевязанными копытами, а не на стенах жилищ клановых крылатых в виде шкурок. Впрочем, “договоры” тоже могли похвастаться кое-чем в арсеналах, чего не было у оставленных родственников из клановых государств. Правда, было это нечто не у всех “договоров”, а только у тех, чья бескрылая часть вела свой род от полосатых понек или еще каким-то манером приобщилась к ремеслу алхимии. И этим нечто были поистине огромные, по меркам этого времени, химические завесы, создаваемые сжиганием больших объемов разнообразных реагентов, дающих удушливый дым. Ответственны за это действо были бескрылые, которые в “договорах” были вполне равноправной частью общества, но и крылатые тоже принимали участие. “Земледавки”, обладая нужной подготовкой и куда большими, чем у крылатых, физическими силами и выносливостью, были ответственны за транспортировку реагентов и топлива и за организацию и поддержание химической завесы уже в процессе боевых действий. Крылатые же (как правило, “полукрылки”, приходящиеся родственницами “химикам”) выполняли функции, кхм, “вентилятора”, взмахами крыльев отгоняя ядовитое облако в нужную сторону. Как правило, подобное химическое оружие использовалось для обороны каких-то важных для “договоров” стационарных объектов (селений, складов, торговых постов, мест добычи природных ресурсов), так как бескрылые могли довольно небольшими силами поддерживать ядовитую завесу на протяжении днейили, даже, недель, а действовать в пределах агрессивных испарений было положительно невозможно ни для одного крылатого, кроме дракона. Несколько слов о психологии варваров https://img2.reactor.cc/pics/post/full/my-little-pony-%D1%84%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%8B-mlp-OC-mlp-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-1353710.png Уже много было сказано о военном деле жителей предгорий Грифоньих Гор. Но вот о том, как они сами воспринимали войны, пока еще не было сказано ничего. Восприятие воинского ремесла как еще одной формы охоты у грифонов в это время было все еще крайне сильно, и понятие “воин” все еще оставалось неотделимо и второстепенно по отношению к понятию “охотник”: для предгорного варвара, грифон это в первую очередь охотник (“грифон”), потом – пастух (“охотник посоха”), шахтер (“охотник за камнем”) или ремесленник (“охотник вдохновения”), и только уже потом – воин (“охотник за пером/волосом”). Защита же родного гнезда и копытных союзников древними грифонами даже не рассматривалась как форма воинских действий, а тот, кто заставлял грифона ею заниматься, не считался воином (“подлый дракон”) — в отношении “подлой твари” для грифона было допустимо все, что угодно. Из чего и проистекал уже основательно оформившийся варварский кодекс воинской чести, которому следовали пернатые охотники: 1) война это охота, 2) убивать сверх меры на охоте неразумно, 3) потомство жертвы трогать непозволительно, как и ее гнездо, 4) убивать следует так, как охотник хотел бы, чтобы убили его (т.е. с минимумом мучений для жертвы), 5) если можно не убивать, то лучше не убивать, 6) если жертва требует ее убить, то следует взвесить все “за” и “против”, и если честь жертвы перевешивает, то убить (ибо, нельзя становиться “подлецом”), если нет, то попытаться сохранить ей жизнь, ибо это отец/мать будущих жертв для твоих детей. Клановая пегасня, будучи от грифонов материально зависима и живя с ними бок-о-бок, само собой, все эти представления перенимала, хотя и чуть переиначивала на свой, понячий, лад. Что касается “обязательств” и пони “договоров”, то они тоже частично перенимали эти представления. Конечно, в гораздо меньшей мере и со значительными переделками: как правило, перенимался только грифоний кодекс чести, откуда вымарывались наиболее непонячьи пункты, сами представления о войне как об охоте не перенимались пони, а “обязанные крылья” дополняли грифоний кодекс чести идеей служения-с-оружием своему племени. Что не было чем-то удивительным: в то время влияние грифонов, из-за сочетания их хозяйственного успеха и бурно развивающейся культуры, было определяющим по всем предгорьям Грифоньих Гор. Что же касается бескрылых пони дикарских табунных союзов, то грифоньему влиянию они сопротивлялись изо всех сил, а собственную воинскую культуру, как правило, не формировали, относясь к войнам либо как к ограблению себя, либо как к сопротивлению грифоно-пегасьей тирании. Итак, вот мы и подошли к подведению итогов развития военного дела на этом этапе развития общества пони Грифоньих Гор. Но, так как в плане изменения военной мысли на горных пиках царил форменный застой и единственным новшеством стало некоторое увеличение размеров армий, то и в подведении итогов родина пегасов и грифонов учитываться не будет. В общем, к каким изменениям военного дела подвели пони предгорий произошедшие экономические и социальные сдвиги? Во-первых, что интересно, развитие родовых отношений до уровня племени не привело к значительному увеличению масштабов конфликтов. Это объяснялось редкостью завоевательных войны в предгорьях и превалированием грабительских набегов и попыток точечного уязвления экономики противника. Во-вторых, появилась концепция экономической войны, когда конечными целями конфликта было не получение каких-то непосредственных выгод, а захват выгодных с торговой точки зрения объектов и нанесение ущерба экономике противника, что в дальнейшем уменьшало торговую конкуренцию и давало определенные преференции в торговле агрессору. В-третьих, грифонье воинство наконец-то смогло в массовом порядке обзавестись лапотворным оружием. Что спровоцировало крылатых пони к перенятию идей защитного снаряжения у своих бескрылых родственников и все тех же грифонов. В-четвертых, произошла специализация оружия пегасов в том, против представителей какого вида оно будет использоваться. В-пятых, появилась идея о возможности, ради достижения лучших результатов, добровольного подчинения представителю другого вида. Получили развитие наука тактики и организованная передача военных знаний между поколениями. В-шестых, несмотря на относительно небольшое обогащение арсенала, оружейное дело предгорных мастеров получило в этот временной период значительное развитие: произошло как эволюционное совершенствование конструкции и материалов существующих видов вооружения, так и значительный шаг вперед в вопросах отделки и украшения, эстетического восприятия оружия, лишивший его пегасьего, исключительно утилитарного, смысла помощи в убийстве врага, и сделав его неотъемлемой частью мира прекрасного в восприятии предгорных пони и, в гораздо большей степени, грифонов. Именно в это время среди грифонов зарождается культура “прекрасной стали”, оружие становится для крылатых охотников в большей мере объектом искусства, чем инструментом, а оружейное и ювелирное дело тесно переплетаются между собой.
