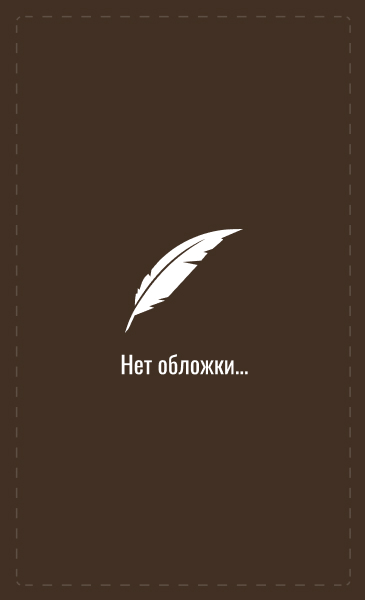
Метки
Описание
Та работа, с которой моя графомания и началась) Само собой, "Поня: Военное дело" планируется публиковать на Фикбуке в переписанном виде (так как в оригинале там так коряво, что читать невозможно), а потому печататься тут будет медленно и постепенно. Если кому невтерпеж (впрочем, а кому оно, вообще, надо-то? чай, фигня от графомана), то можно вбить в поисковик или посмотреть на "Табуне" - где-то там все (или почти все), что уже написано, есть.
Примечания
И, да, что сие фигня есьм такое: это псевдоисторическая графомания, первоначально рассматривавшая то, как у эквестрийских поняшек могло бы возникнуть и развиваться военное дело, потом активно ударившаяся (так как, автор еще тот) в альтернативную историю и сочинения за поней понячьего фольклора. Писанина не закончена (остановлена на начале 9-й главы, по табунской системе учета), и вряд ли будет когда-то закончена.
Посвящение
Мои благодарности брони MLPMihail, Dilandu, afraniy, Noncraft, Aluxor, Gedzerath, Rj-PhoeniX, DarkKnight, Rinar, SMT5015, LozoHoD, graf_leon, BusyaCipher, VIJNYL124 (вот перед ней я изрядно провинился...), Captain, MadHotaru, Limrei, Irbis, Tomty, S_Ayaal, GreenWater, Rishka, Krynnit, RaitaFoxy13, Nowhere, GL_DOS (да, тебе тоже спасибо) и другим, которых я, наверняка, забыл упомянуть и тех, у кого я без спросу попячил картинки на кривую переделку.
Глава 1 Эпоха дикости - Оседлый этап эпохи дикости
12 ноября 2022, 01:41
Оседлый этап эпохи дикости
Земнопони и единороги на оседлом этапе эпохи дикости https://i.imgur.com/Fg6F6d5.jpeg Будучи весьма успешным биологическим видом, поньки плодились и размножались на своих плодородных равнинах. К лесным единорогам это относилось в той же мере, что и к земному понитипу, так что вскоре рогатые лошадки, двигаясь по пути наименьшего сопротивления, вышли из своих лесов на обширные равнины к западу от Грифоньих Гор, где полностью повторили успех безрогих родственников, заполнив все еще никем не занятые просторы. Однако рано или поздно наступил момент, когда кормовых ресурсов стало не хватать. Что заставило часть равнинных поней мигрировать на слабо освоенные территории вблизи небезопасных лесов и болот. Но немало лошадок осталось на прежних землях. Выкручиваться из создавшейся ситуации с нехваткой кормов они стали хорошо знакомым для нас путем: через переход от присваивающего хозяйства к производящему. Первые попытки перехода к земледелию были предприняты на заливных лугах по берегам рек и озер. Первыми выращиваемыми культурами были обычные для лугов съедобные травы, в том числе различные виды осоки. Осока неприхотлива и растет довольно быстро, что давало земледельцам возможность вести полукочевой образ жизни, перемещаясь между лугами, засеянными в разный срок. Позже к съедобным травам присоединились однолетние овощи, что, не смотря на все еще быстрый рост хозяйственных растений, довольно сильно ударило по кочевому образу жизни, заставив пони основывать хоть и все еще временные, но уже регулярно посещаемые и обладающие капитальными постройками (амбарами и их изгородями) поселения. Стоит отметить, что переход к производящему хозяйству привел к появлению и некоторых других новшеств. Во-первых, пони стали делать крупные запасы и использовать орудия труда: примитивные каменные ножи (для срезания трав и раскройки коры деревьев), плетеные корзины и перевязи. Во-вторых, табуны значительно увеличились в размерах (до 40-100 пони), что потребовало наличия нескольких жеребцов в одном табуне (но их соперничество за кобылок и нетерпимость к пони того же пола никуда не делось). Так что, вожачкам пришлось не только организовывать работу резко увеличившегося в размерах коллектива своих родственниц, но и вести учет запасов, следить за поддержанием в должном виде временных поселений и сельскохозяйственных угодий, брать на себя регулирование отношений между жеребцами и установление порядка спаривания в табуне. Что, конечно же, было невозможно в одиночку — им приходилось делегировать часть своих полномочий наиболее ответственным сестрам, так сказать, “совету старейшин”. Хотя земледельцы еще не слишком сильно отличались от кочевников, но уже начались столкновения между аграриями и собирателями: кочевники, не видевшие разницы между засеянными и дикими лугами, часто выедали плоды трудов своих более предприимчивых соседей. Понятное дело, последним это крайне не нравилось (так как, появилось представление о собственности, хотя пока только на урожай), и они стремились отогнать родственников-вредителей. Но стоит отметить, что кочевники (да во многом и сами новоявленные пони-земледельцы) все еще мыслили в рамках кочевого образа жизни. А, следовательно, столкновения между табунами пони были, по-прежнему, случайны и практически бескровны: ни о каких преднамеренных набегах даже не могло идти и речи. Несмотря на крайний примитивизм ведения хозяйства ранними земледельцами, эти преобразования привели к новому этапу взрывного роста понинаселения. Практически все доступные заливные луга были достаточно быстро заняты (даже прилежащие к болотам, где пони ежедневно рисковали стать закуской для гидр). Но трусоватый нрав маленьких лошадок и все еще господствовавший кочевой дух не позволили на этом этапе начаться переделу земли. Вместо этого избыток луговых пони устремился на новые территории, частично вернувшись к кочевому образу жизни, частично начав приспосабливаться при помощи своих земледельческих навыков. В это время пони начинают активно выращивать корнеплоды, осваивают злаки, бобовые и костер. Эти культуры куда сложнее в уходе, чем луговые травы, и растут медленнее, что вынудило пони-земледельцев к оседлости, но куда питательнее и прекрасно себя чувствуют за пределами ставших дефицитными заливных лугов. В свою очередь, невозможность уйти от своих посадок привело к очень важному сдвигу в сознании земледельца: у пони появляется понятие дома и осознание земли как собственности табуна. Ранее бывшие зыбкими и неопределенными, границы табунных земель вдруг стали четкими и вполне осязаемыми (любой нарушитель мог почувствовать их в виде удара пары копыт по ребрам). Правда, участки, занимаемые табунами, резко уменьшились в размерах, так как земледельцам, за счет гораздо большей продуктивности даже примитивного производящего хозяйства, нужно куда меньше земель, чем собирателям. Так что, ничейных земель на этом этапе понячьего развития все еще было вдосталь. К тому же, этому способствовало то, что пока пони были способны справиться с обработкой только наиболее плодородных и имеющих прямой доступ к воде земель, доля каковых от общей площади равнин была невелика. Выращивание новых культур потребовало новых методов обработки земли и ухода за посадками, требовавших куда больше труда, чем простой засев лугов и ожидание созревания урожая. Увеличившаяся трудоемкость выращивания урожая потребовала, а рост продуктивности хозяйства позволила увеличить численность табунов земледельцев, которые теперь стали насчитывать от 80 до 200 пони (в теории, и ранее продовольствия для этого могло производиться достаточно, но избыток молодежи отправлялся в самостоятельное плавание к еще не занятым лугам, так что своевременность или запоздалось формирования полной оседлости у пони-земледельцев это вопрос крайне спекулятивный). Это привело к еще большему увеличению численности жеребцов в одном табуне и еще большей занятости кобылок из “совета старейшин” в управлении поселением. Также потребовались новые инструменты как для обработки земли, так и для обустройства поселений и изготовления самих орудий труда: появились мотыги, лопаты, топоры, молоты, пилы, сверла и прочий неолитический хайтек.. К тому же изменились и способы их изготовления: теперь активно использовались пиление, сверление и шлифование каменных и деревянных заготовок. Одновременно с этим пони активно осваивали гончарное мастерство, применяя свои, пока еще невеликие, умения даже там, где ремесленники более продвинутых обществ и не подума ли бы использовать изделия из глины. Само собой, такое резкое расширение использования в повседневном труде различных инструментов породило проблему нехватки материалов для их изготовления: годных дерева и камня в степи немного. Правда их в избытке в холмах и лесах, рядом с которыми кочевали некоторые табуны пони-собирателей. Установление меновой торговли не заставило себя ждать. Вскоре обмен различных минералов и древесины на продовольствие стал для некоторых кочевых табунов основным источником пропитания. И весьма, надо заметить, неплохим: численность таких семей была в 1,5-2 раза выше, чем у более старомодных кочевников. Новоявленные торговцы меняли привычные пути миграции, стараясь включить в них как можно большее число поселений земледельцев. Весь этот комплекс нововведений привел к тому, что благосостояние табунов, несколько увеличившись со времен лугового земледелия, стало сконцентрированным в одном месте и видимым всем. В свои права вступили зависть и алчность. А это значит, что у пони появились стимулы отобрать что-то у другого пони. То есть, появилась основа для возникновения идеи войны. Первые войны https://i.imgur.com/pPqgQj5.jpg Начнем с того, чем пони этого этапа разительно отличались от нас: первые целенаправленные набеги на земледельцев стали совершать другие земледельцы, хорошо понимавшие своих жертв. Это произошло не только из-за психических и психологических особенностей разноцветных лошадок, но и из-за того, что только у понек, ведущих производящее хозяйство, хватило бы на такие авантюры сил (табуны собирателей уступали земледельцам по численности в 5-10 раз). А единственной формой производящего хозяйства для поняшек, в виду их плодоядности, могло быть только земледелие. Из земледелия же происходит и относительно богатый арсенал равнинных пони, радикально отличающийся от откровенно бедного арсенала пегасов. Как велись и зачем войны? blob:https://gloriaequina13.imgur.com/bc10022b-260f-4937-b9ba-15e2f4798263 Прежде, чем приступить к разбору собственно военного дела равнинных дикарей, стоит указать на то, что бескрылые пони, в отличии от пегасов, начали совершать вылазки против своих соседей из жажды наживы, а не ради спасения от голодной смерти. С этим связаны гораздо более слабое, чем у горцев развитие дипломатии, межтабунных отношений и стратегической мысли, а так же монотабунный характер набегов. Длительное время (практически всю оставшуюся часть эпохи дикости) набеги совершались на близлежащих соседей и были представлены тремя формами: большой набег, малый набег (“хулиганская выходка”, как назвал бы ее почти любой современный житель Земли) и завоевание табуна. I) Большой набег Большой набег это, собственно, и есть основная форма военных действий, ведущихся дикими пони-земледельцами (ну, не малый же набег разновидностью войн считать?). Данное мероприятие начиналось с осознания пони чрезмерного богатства соседа, и представляла собой организованный поход наиболее сильной части взрослых кобыл под предводительством вожачки или одной из ее доверенных родственниц к поселению соседей. Обычно численность такой армии составляла около 40-70 пони. При этом, в подобные походы предпочитали не брать жеребцов, так как их лояльность табуну оставляла желать много лучшего. Но, иногда, если у главы табуна была поистине железная хватка или конкретный жеребец был чем-то (или кем-то ) очень сильно привязан к табуну, то банда рейдеров могла включать и представителей сильного пола (что значительно усиливало боевые возможности вымяносного воинства и шансы всего предприятия на успех). Отряд двигался к намеченному поселению намеренно неспешно и не скрываясь: обычной была практика чрезмерно частых остановок на территории противника и на показ шумного поведения, что давало возможность жертвам получше рассмотреть рейдеров. По встрече защитников (коли у тех хватило духу выступить навстречу) или по приходу к поселению (коли не хватило) начиналась разнящаяся от места к месту церемония приветствия и выдвижения требований. Одновременно происходило потрясание оружием, выкрикивание воинственных кличей и другая демонстрация кобылячьей доблести, эффект от которой усиливался боевой раскраской и различными украшениями, навешанными на поньку (кстати, по одной из версий, отсюда берут свое начало обычаи ношение одежды и макияжа понями). Как правило, на этом бой и заканчивался, так как цель выбиралась заведомо слабее рейдеров. После чего начинался сбор дани. Таким легким победам очень способствовали боязнь случайного потоптания посадок и необременительность самой дани. Немного насчет последнего. Пони, в силу недавно обнаруженных особенностей своего мира, куда мягкосердечнее нас, и вот так, за здорово живешь, не оставят других понек, хоть и ограбленных ими, голодать. Даже если попадалась очень жадная вожачка, то на нее надавливал весь остальной табун. Правда, поняшки далеко не всегда правильно оценивали свои силы, и демонстрация страшнопоньства налетчиками вполне могла не впечатлить поселян. После чего и начинался мордобой, представлявший собой скорее свалку, чем организованную битву. Впрочем, хотя такие бои часто сопровождались ранениями, а изредка даже смертью бойцов, но они почти никогда не бывали действительно кровавыми, так как мотивация комбатанток и с той, и с другой стороны была не очень сильна, а понячьи природные впечатлительность и трусоватость никуда не исчезали. Рейдеры приходили за добычей, без которой вполне могли обойтись. А атакованные помнили, что они всегда могут откупиться - вопрос только в цене. Кстати, насчет мотивации. Защищающиеся, так же, как и атакующие, старались не привлекать к боевым действиям жеребцов, так как те не только сами предпочитали не рисковать собственной шкурой понапрасну, но вполне могли улизнуть к рейдерам, если бы пришли к выводу, что табун напавших более им подходит. II) Завоевание табуна Весьма редко, но все же случалось так, что табун земледельцев ослабевал настолько (болезни, стихийные бедствия, хищники), что один из соседних табунов мог отважиться на захват его земель. Это должно было быть очень значимое ослабление и непреодолимый соблазн, так как в представлении земледельца земля была священна, а право на нее неотторжимо (к тому же, длительное время на равнинах все еще хватало незанятых земель для молоди). Но, тем не менее, иногда такое случалось. Хотя стоит отметить, что с точки зрения пони завоевывалась не земля, а сам ослабевший табун, который формально по-прежнему владел своими угодьями. В подобном предприятии сами боевые действия были аналогичны таковым при большом набеге, но вот их политический результат был совсем иным. Вместо простого сбора дани, табун-победитель выделял из себя группу молодежи (как правило, самую беспокойную и явно лишнюю), которая занимала земли побежденных, вливаясь в их семью и переформируя ее заново, становясь во главе нового табуна. В отличии от пегасов, ожесточенных постоянной жизнью на грани голодной смерти, равнинные пони не могли просто так выгнать бывших владелиц земли и уж, тем более, они не могли их перебить, как сделали бы крылатые лошадки. Что, заодно, подкреплялось религиозными верованиями большинства равнинных лошадок в мистическую связь земли и населяющих ее пони (кстати, многие из этих суеверий в том или ином виде дожили до наших дней, будучи богато представлены среди сельских пони Корелевства Эквестрия, Национальной Республики Зебр и востока Грифоньей Империи). К тому же, организация, умения и опыт уже устоявшейся (хоть и поредевшей) семьи были на первых порах очень нужны оказавшемуся у руля молодняку. Судьба побежденных сильно разнилась от случая к случаю, завися от степени самодурства новой вожачки и ее желторотого “совета старейшин”. Кобылки прежнего табуна как могли быть превращены в забитых скотинок, не смеющих даже говорить в присутствии новых хозяек их земель, так они могли стать и верными названными сестрами завоевательниц, в конечном итоге забыв о разнице в родстве. III) Малый набег. Назвать малый набег формой военных действий очень сложно, скорее это хулиганская выходка по отношению к соседнему табуну и поход за приключениями на собственный круп. Но, тем не менее, эквестрийские историки в вопросе классификации данного вида, если можно так выразиться, “войн” определились давно и непоколебимо, так что нам с вами, читатель, придется подчиниться. Были малые набеги весьма многообразны, происходили постоянно, осуществлялись небольшими группками (обычно по 2-15 пони, но, при должной дурости, могла пойти и орава в 40-50 лошадок) и участвовали в них оба пола. Цели у малых набегов, как правило, были весьма невоенные: продемонстрировать свою удаль, пощекотать нервы, поизгаляться над соседями. Да и “награда” провалившимся налетчикам была соответствующий: трепка в 8-12 копыт (что для пони не так уж и страшно) и предъявление родственницам соответствующего счета к оплате (что, само собой, вело уже к трепке со стороны родного табуна, вовсе недовольного ни лишними тратами, ни публичным полосканием своего имени). Не смотря на многообразие малых набегов, они вполне поддаются классификации: 1) Набеги жеребцов. Как и следует того ожидать, проводились жеребцами с целью чпока понравившихся кобылок из соседнего табуна. Нельзя сказать, чтобы такие набеги были опасны. Конечно, кобылка могла быть сильно против несанкционированного осеменения, но, даже имея численное превосходство, поньки не могли серьезно помять куда более крупного, сильного и крепкого поня. Который, к тому же, не видел ничего зазорного в том, чтобы, если дела пойдут кисло, быстренько смыться. Конечно, жеребец мог нарваться на защитника кобылок того же пола. Но табун-то у поня уже был! Так что, и тут можно было без зазрения совести ретироваться (а защитничек-то за ним не побежит, подозревая за каждым кустом сообщников налетчика). Но мог на такового защитника и не нарваться. Тут стоит отметить такое, в дальнейшем сыгравшее очень важную роль в обществе земнопони и зебр, явление, как мужская солидарность. Жеребцы могут поедом друг друга есть, пока они делят кобылок, но стоит только исчезнуть мотиву продолжения рода, как тут же они становятся лучшими друзьями. Именно так выживали в ничейных землях странствующие жеребцы-холостяки — в группах по 3-4 хвоста. А раз уж порядок спаривания в табуне определяют кобылы, то рядом с местом преступления вполне мог оказаться жеребец, который на конкретно этих кобылиц никаких видов не имеет. Защищать же “чужих” кобылок он тем более не будет, как и “закладывать” брата по несчастью табунной сестрии. Конечно же, подобные похождения на стороне не одобрялись внутри “своего” табуна, но пока жеребец устраивает табунную верхушку, до тех пор на его мелкие шалости смотрят сквозь копыта, предпочитая без особой нужды с капризным сильным полом не ссориться (вот этого неплохого, но иногда погуливающего “налево”, поня прогонишь, а каким новый окажется? Может быть, дураком или лентяем? Да и, вообще, от него хорошие ли жеребята будут?). Тем более, что в малых набегах, причиняющих другому табуну иные неудобства помимо незапланированных жеребят, жеребцов обычно видно не было. Это объяснялось тем, что место жеребца в табуне - штука очень зыбкая, и всерьез портить отношения с соседями, к которым, может быть, придется когда-нибудь податься, глупо. 2) Набеги кобылок. Были гораздо разнообразнее, а потому их можно разделить на три группы: а) Демонстративные мелкие пакости: воровство различного барахла из поселения с последующим хвастовством/выставлением на видное место, тыриние плодов из садов (там, где разбивали плодовые сады), фигурное выедание на полях, изрисовывание соседских стен натурпродуктом, подбрасывание кроликов в чужой огород и тд., и тп. В общем, все, в чем нет никакого практического смысла, но что показывает твою крутопонистость и злит соседа. Дело дурное, но бывшее крайне распространенным среди молодых кобылок. б) Соблазнение чужих жеребцов. Кобылок далеко не всегда устраивают наличествующие в табуне жеребцы, да и соседский зачастую привлекательнее (так как, соседский). Сказать, что этот тип набега был сложен, нельзя: как правило, жеребцы в каком-то особом соблазнении не нуждались. Но вот опасным — безусловно. Неудачливых соблазнительниц, если те попадутся “на горячем”, будут таскать за гривы и хвосты всем пострадавшим табуном, не забывая добавлять копытами. Ну, и, конечно, еще и родственницы добавят дома, дабы продемонстрировать всей округе, что они тут ни при чем и такое падение нравов категорически осуждают. При этом, стоит отметить, что зачастую подобные набеги были отнюдь не самовольными шалостями кобылок-с-ветром-в-голове, а санкционированными вожачкой акциями, призванная заполучить жеребят от лучшего, по ее мнению, жеребца. в) Поход за дракой: Отлов и избиение соседей поодиночке. Могло быть как самостоятельным хулиганством, так и местью за предыдущие шалости соседей. С организацией та же петрушка: могло быть как спонтанным налетом кобылок, обозленных соблазнением их Кул Сталиона какой-нибудь соседскою Грэй Маус, так и тщательно спланированным верхушкой табуна актом возмездия за съедение “священной тапки” очередными CMCками. Арсенал диких пони-земледельцев http://images.wikia.com/falloutequestria/images/7/74/Lightbringer_by_3maxa-d4l9qtq.png И раз уж пони стали вести войны, то следует поговорить и о том, чем они их вели. Итак, оружие диких пони-земледельцев. Нужда в оружии пришла к равнинным пони довольно поздно – только на земледельческом этапе эпохи дикости. Не будучи плотоядными по природе своей, поняшки никогда не знали орудий охоты и в первых боях больше полагались на собственные копыта и зубы, чем на мертвые палки и камни. Но, тем не менее, ежедневное использование орудий труда постоянно наталкивало поняш на мысль о том, что с помощью инструмента можно поднять свою эффективность и в драке, а пришедшая со временем оседлость подвела черту под возможностью пони сбежать и тем избежать драки буде противниками обычные хищники или другие четвероногие разумные. Так что, не удивительно, что большая часть арсенала земледельцев ведет свою родословную от сельхозинвентаря. И да, не стоит забывать про понячьи природные впечатлительность и трусоватость, помноженные на желание покрасоваться: даже такое неказистое оружие, как правило, ярко раскрашивалось и украшалось в соответствии со вкусами дикарок. 1) Топоры и клевцы были одними из первых видов вооружения оседлых зебр и земнопони. Именно это оружие было основой их арсенала, и решало исход сражений всю оставшуюся часть эпохи дикости. а) Клевец – оружие, представляющее собой длинную палку с острым шипом (иногда загнутым кзади) перпендикулярно расположенным к ее оси. Произошел клевец от киркомотыги (в общем-то, первоначально поньки просто дубасили друг друга сельскохозяйственным инструментом). Древко клевца изготовлялось так же, как и черенок мотыги, а вот рабочая часть уже делалась по-другому. Клин клевца мог быть деревянным или каменным. Деревянный клин представлял из себя особо тяжелый и прочный сук, который обстругивался и полировался или обжигался на костре до приемлемой остроты. Каменный клин изготовлялось из различных сортов камня, которые подбирались по принципу “чем тверже — тем лучше”. После изготовления, железко приматывалось к древку при помощи травяной веревки, полос размягченной коры или кроличьей кожи. В более поздние времена в нем стали сверлить отверстия и насаживать на древко. Само древко в месте удержания обычно обматывалось веревкой из растительных волокон, предотвращавшей скольжение зубов, впитывавшей слюну и гасившей часть “энергии” удара. В бою клевец удерживался в зубах перпендикулярно корпусу так, чтобы его шип был по правую сторону от бойца. Удары наносились горизонтально справа налево по широкой дуге. Обычно метили в бока, а по ногам, в шею или голову били очень редко. б) Топор – оружие, представлявшее собой хозяйственный топор на удлиненном древке, изредка имевший более узким клин. Обычно пони не изготавливали топоры специально для боя, а просто перед набегом насаживали рабочий топор на более длинное топорище. Железко топора изготовлялось из кремня (реже из других минералов) путем скола камня с последующей его полировкой. Крепление топора к древку было аналогично таковому у клина клевца. В бою топор удерживался и использовался как клевец. Но, в отличии от последнего, удары по ногам были излюбленными у понек с этим оружием, так как и попасть было легче, и ущерб топор наносил куда больший. Серьезным недостатком топора в бою был его плохой баланс (переутяжеленный конец с железко имел солидную инерцию), что делало удары топором и возврат его в боевую позицию более медлительными, чем при работе клевцом. Резюмируя: имея устрашающий вид, нанося солидные повреждения и не требуя специального обучения, клевцы и топоры стали основным оружием в войнах безрогих пони-земледельцев эпохи дикости. Но, не смотря на все эти достоинства, полностью реализовать потенциал этих орудий войны поньки не могли, так как сил кобылок не хватало для нанесения смертельных ударов каменным топором или клевцом (эквестрийские пони весьма крепки и живучи, а также специфически устойчивы к ударным воздействиям). Раны от них были очень болезненны, обильно кровоточащими и страшными на вид, но если раненой кобылке вовремя оказывалась самая примитивная помощь, то они хорошо заживали, хоть и безобразными рубцами. Разрубить же кость или пробить грудную клетку врага большинство кобылок таким примитивным оружием физически не могли. Максимум, их удары могли привести к образованию трещин в костях противниц. Впрочем, это не было плохо, так как большого желания убивать или готовности быть убитыми ни у зебр, ни у земнопоняшек не было. 2) Меч-булва — еще один потомок рабочего инструмента. Данное оружие произошло от каменных кос, которыми земнопони срезали костер и злаки. Меч-булава представлял собой закрепленный на коротком древке прямоугольный деревянный брусок длинной 50-70см, в одну (реже в обе) из боковых граней которого были плотно вставлен ряд острых каменных осколков. В бою данное оружие удерживалось зубами за зубоять перпендикулярно корпусу так, чтобы его рабочая часть был по правую сторону от бойца и при ударе “лезвие” из каменных осколков было бы обращено к врагу… и все. Свойства меча-булавы не подразумевала никаких интуитивно понятных техник использования, а каких-то других никто и не разрабатывал (так как, обучение сложным приемам требует много времени, которое можно потратить и на работу или еще на что полезное для пони). Так что, большинство понек попросту лупила противника мечем-булавой как придется. Хотя потенциально меч-булава был грозным оружием, но, в связи с его недостатками (сложность изготовления и длительное обучение владению), особенно широкого распространения он не получил. Его время, просто, еще не пришло. 3) Праща появилась в обиходе земнопони благодаря кроликам, портившим посевы. Эти прожорливые зверьки с легкостью пролазили через посадки колючих кустарников и хлипкие плетеные заборчики, даже ровики против грызунов рано или поздно давали слабину перед длинноухой нечистью. Так что, поньская молодь тратила немало времени в кроличьих патрулях, защищая посевы от короткохвостых вредителей (а, заодно, нейтрализовывались и пустобокие вредители, которые, будь у них больше свободного времени, держали бы все поселение на ушах 24 часа в сутки 7 дней в неделю). Дикие земнопони использовали простые волосяные пращи с одним или двумя постромками, которые заряжали камнями или обожженными на солнце глиняными шариками. Сами пращи обычно плелись маленькими поньками из собственной гривы и очень ими ценились (скорее как знак принадлежности к клубу, чем как материальная ценность). Праща привязывалась постромками к хвосту, отступая примерно копыто от его кончика. Для того, чтобы зарядить пращу ее либо закидывали хвостом на спину и вкладывали снаряд ртом, либо движением хвоста расстилали на земле рядом с собой и вкладывали ядро копытокинезом. Огонь вели либо из положения припав на передние ноги (что обеспечивало повышенную точность и силу броска), либо не припадая, часто на всем скаку (что было неэффективно, но “круто”): усилием хвоста праща раскручивалась над стрелком в горизонтальной плоскости по или против часовой стрелке (из-за этого траектория полета снаряда была смещена вправо или влево), после чего резким рывком хвоста камень посылался в полет (из однопостромковой пращи сделать это было легче, но праща с двумя постромками обеспечивала лучшую точность). Все земнопони, вне зависимости от пола, владели искусством пращника. В том числе и жеребцы, так как, пока они еще были жеребяшками, им тоже приходилось ходить в кроличьи патрули вместе со своими сестрами. Выпущенный из пращи снаряд вполне мог убить кролика или ворону или больно ушибить пони, но нанести действительно опасные повреждения разноцветным лошадкам он был не в силах. Из-за этого недостатка увидеть пращу на поле боя было практически невозможно. Но когда дело касалось малых набегов, то из недостатка это ее свойство вдруг превращалось в достоинство: можно было запросто издали наставить синяков соседским кобылкам или побить неосторожно выставленные горшки, а если поймают, то выглядеть это будет как простая проказа (побить конечно побьют, но и не более). Кстати, именно праще земнопони обязаны модой на длинные хвосты и перевязывание волос лентами. https://i.imgur.com/KtvFvXM.jpg 4) Аркан появился в среде торговых земнопони-кочевников как многоцелевой инструмент, позволяющий достать что-то, до чего сама понька дотянуться не может (а это было актуально в тех местах, где кочевали торговцы). Подобная полезность очень быстро была перенята земледельцами, которые нашли ей кучу применений: обламывание старых сучьев с деревьев, оборона от хищников и зайцев, отлов CMCсок, выпендрежное выдергивание морковки и тд. И, конечно же, его использовали в бою. Аркан изготовлялся из травяной или волосяной (реже) веревки путем завязывания на одном из ее концов незатягивающейся или скользящей (редко) петли. Другой конец обвязывался вокруг хвоста так же, как это делалось с постромками пращи. Хотя овладеть умением пользоваться арканом непросто, но земнопони начинали упражняться в этом еще с жеребячества, когда взрослые отправляли их в кроличьи патрули. Но, в отличии от пращи, пони не отказывались от аркана после признания табуном их зрелости. Техники использования аркана были самые различные и разнились не только от табуна к табуну, но и от пони к пони. В бою аркан чаще всего пытались накинуть на оружие, шею или ноги оппонента, после чего перехватывали свой конец веревки в зубы и резко дергали. Соответственно, противница лишалась оружия, у нее резко перехватывало дыхание или она падала на землю. И тут вступала в дело понячья психология – стреноженная понька предпочитала лежать на земле закрыв глаза и мелко дрожать, а не пытаться вернуться в бой. В целом, аркан, как боевое оружие, был очень распространен среди земнопони, хотя и уступал по популярности топору и клевцу (так как пони с топором в зубах выглядит куда более внушительно, чем с веревкой на хвосте). https://i.imgur.com/TqJSjeK.jpg https://i.imgur.com/eU3pk6d.png 5) Хвостовой кистень был логичным продолжением идеи лассо, родившимся среди жеребят, страдавших от скуки в кроличьих патрулях. В целом, кроличьи патрули были делом монотонным и на редкость нудным, особенно если кролики были пугливыми, но настырными: попасть в такого из пращи или поймать арканом сложно, а шугануть недостаточно — все равно, вернется. Особо предприимчивые жеребята затягивали свой аркан вокруг какого-нибудь камня, и начинали с гиканьем гоняться за кроликами, лупя их своим импровизированным цепом (попутно вытаптывая то, что не успели сгрызть длинноухие). Пару раз прослушав нравоучения от взрослых, такие сорвиголовы переставали бегать по грядкам и брались за ум (и пострадавший круп). Но идею не оставляли, вместо этого начиная лупить кролей поаккуратнее, стараясь попасть точно по огородному вредителю, а не по доедаемой им репе. Вскорости пустобокие дератизаторы приходили к логичному выводу, что лупить мелкую нечисть такими маленькими камешками просто смешно, а реальную каменюку они еще не потянут. И начинали скалывать свои камешки наподобие топоров и ножей взрослых пони, что благотворно сказывалось на урожае капусты. Время шло и юные кулибины вырастали, становясь взрослыми кобылками и жеребцами. Но опыт шинкования длинноухой нечисти никуда не девался. В целом, хвостовой кистень представлял из себя каменный топор с очень широким клином или даже каменный диск с острыми краями, привязанный к длинной травяной или волосяной веревке. Носилось это оружие подобно аркану, но использовалось совсем иначе: им стегали врага, стараясь ударить противника клином (иногда особо ушлые воительницы запутывали ноги противницы веревкой или выдергивали у нее изо рта оружие). Бойцы с такими странными арканами на хвостах, вообще, слыли редкими сорвиголовами и авантюристами (которыми они, в общем-то, и были). Распространенность подобного оружия пространственно была широка (его много где заново изобретали), а вот встречалось оно не очень часто, так как умению обращаться с ним изобретатель учился сам, методом научного тыка. Можно сказать, что хвостовой кистень постигла та же участь что и меч-булаву — его время, попросту, еще было впереди. 6) Поля единорогов страдали от набегов кроликов не в меньшей мере, чем поля земнопони. И точно так же легко длинноухие обходили препоны, оставляемые рогатыми пони на их пути к вкусным посадкам. А потому юные единорожки тоже ходили в кроличьи патрули, где им приходилось бороться с ушастым бедствием своим особым единорожьим метательным оружием. Первоначально, помимо простых камней, оно было представлено двумя видами: а) небольшими деревянными или камышовыми метательными стрелками без оперения (“камыш/заноза/щепка”) и б) мелкими острыми камешками, остававшимися как отходы после изготовления орудий труда (“камешек/отколок»”). Сказать, что это оружие было эффективно хотя бы против кроликов, значит соврать. Но моркошку-то как-то спасать надо было. Так что, эти примитивные образцы дератизационных технологий постоянно совершенствовались. Метательные стрелки утяжелялись смолой или глиной, получали оперение из поньского волоса, и, в итоге, превратились в аналог земных дротиков-дартов – уже довольно серьезный аргумент против мелкой живности. Хотя, многие пошли и другим путем, увеличивая стрелку в размерах и заостряя ее не простым отщеплением кончика, а огнем или обстругиванием с полировкой, что, по одной из версий, дало жизнь легким дротикам. Не остались в стороне и “отколки”: для лучшей работы маленьких борцов с полевыми вредителями взрослые (да часто и сами жеребята) стали специально изготовлять небольшие каменные ножи со смещенным балансом, упрощавшим их метание. Так родились “рога” – некое подобие земного метательного ножа (правда, в связи с отсутствием рук и наличием телекинеза у единорогов, метались они совершенно иначе: по дуге, на начальном отрезке которой острие ножа было направленно вперед и вверх). Впрочем, рогатые пони не остановились на этом, объединив метательный нож и легкий дротик, в итоге, получив дротик с каменным наконечником, чья убойность уже внушала уважение не только огородным вредителям, но и заглянувшим на огонек хищникам. В общем, вопрос о том, когда весь этот богатый арсенал начнет использоваться не только против ушастой напасти, но и против других пони, был вопросом времени. Весьма небольшого, судя по данным археологии. Собственно бой (если дело до него доходило, не заканчиваясь на этапе угроз и демонстраций) единорогов всегда начинался с метательного оружия, и оно же обычно его и заканчивало. Поньки старались целиться врагу в шею или бок, а сами — уворачиваться от снарядов или принимать их на грудь (да и перехватить телекинезом пролетающую рядом гадость были не дуры). При этом обе стороны пытались держаться друг от друга подальше, страшась ближнего боя. Для таких боев были характерны некоторая затянутость и обилие крови при почти полном отсутствии смертей или тяжелых ранений: издалека попасть дротиком или каменным ножом в скачущую туда-сюда поньку, которая еще может его магией и перехватить, это дело непростое, а уж нанести сколько-либо серьезный ущерб довольно крепкой поняшке очень грубым оружием на излете – вопрос скорее чуда, чем умения. Так что, серьезных ранений было мало, а вот мелких порезов — в избытке. Что же касается затянутости, то объясняется все просто: враг далеко, в ближний бой не рвется, и кажется, что убежать всегда сможешь, а, значит, не страшно. Потому, сражения единорогов кончались не внезапной паникой и массовыми бегством с обмороками, как у безрогих родичей, а простым пленением свалившихся с копыт от кровопотери горе-воительниц с последующим их отпаиванием и лечением силами родственников и победителей (странно для нас, не правда ли?). Если же подвести итог, то даже после появления на поле боя копья подавляющая часть боев единорогов выигрывалась в дальнем бою, подкупавшем рогатых лошадок своей кажущейся безопасностью. Интересный факт: единороги будучи, как и все дикари, отнюдь не склонны просто так расточать свои ресурсы, оснащали свое метательное оружие яркими лентами, по которым его было проще найти после броска, или привязывали к оружию тонкую веревку, за которую можно было потом подтащить снаряд обратно к себе. Интересный факт: несмотря на откровенно слабое развитие военного дела среди единорогов-дикарей, они все же знали специальные средства индивидуальной защиты. К самому концу эпохи дикости и в начале эпохи варварства в единорожьих землях распространились прямоугольные плетеные щиты на деревянной или камышовой раме, которыми воительницы пытались как скрыть то, куда они метят своим ножом/дротиком, так и отражать метательные снаряды противниц. https://i.pinimg.com/originals/73/ae/1c/73ae1c576fdd05515161fb4c2be920c1.jpg 7) Изредка бои единорогов не заканчивались на взаимном обмене дротиками и метательными ножами, и дело доходило до ближнего боя. В нем рогатые лошадки полагались не только на зубы, копыта и свой метательный арсенал, использующийся теперь не по профилю, но могли пустить в ход и каменные ножи. Впрочем, с точки зрения самих четвероногих дикарей, каменный нож оружием вовсе не являлся и в бою, в общем-то, использоваться не должен был – это был обычный хозяйственный инструмент, который древние единорожки постоянно носили с собой и использовали для различных повседневных нужд Единорожий нож представлял собой остро сколотый и отполированный с одного края камень без древка (не стоит забывать, что удерживался инструмент телекинетическим усилием, а не хватательной конечностью). В бою каменными ножами наносили режущие удары по касательной, т.к. рубящего удара каменное лезвие могло и не выдержать, а острого конца у ножа обычно не имелось. Основная ставка при этом делалась на психологический эффект и, в меньшей мере, на то, что при достаточной кровопотере противница через какое-то время обессилит и не сможет больше сопротивляться. Парирование ударов противника не практиковалось из-за крайне низкого уровня военной подготовки дикарок (вернее, из-за полного отсутствия оной подготовки), но, даже если бы в те времена нашлась рогатая пони, способная к фехтованию, то из-за хрупкости каменных ножей от этой идеи пришлось бы отказаться. Резюмируя: сражения на ножах в те времена были настолько редким и исключительным явлением, что такие события удостаивались места в легендах. Из которых мы, собственно, о таком способе ведения боя дикими единорогами и знаем, как и о том, что копытопашня поражала и пугала древних пони своей скоротечностью и полной неопределенностью до самого своего финала. https://derpicdn.net/img/2017/1/17/1341504/large.png 8) Копье было одним из величайших творений единорожьей военной мысли, определившим суть военного дела рогатых пони на многие века вперед и до сих пор являющимся одним из узнаваемых символов рогатого племени. Но появилось это простейшие оружие очень поздно, на самом закате эпохи дикости, произойдя от метательного дротика, и, в общем-то, как инструмент войны длительное время не воспринималось самими рогатыми лошадками. Дело в том, что, будучи плодоядными, пони никогда не испытывали необходимости драться с крупным зверем, предпочитая от него убежать. Но, по мере расселения земледельцев по лицу Эквестрии, выяснилось одно очень интересное обстоятельство: на самых плодородных землях или в непосредственной близости от них всегда полно опасных стайных хищников (волки, древоволки, собаки и тд.), привлекаемых обретающимися тут же стадами травоядных. И эти хищники очень даже не прочь разнообразить свой рацион понькой или двумя. Раньше четвероногие дикарки просто убегали от таких соседей или, даже, уходили в другие земли, если дело становилось совсем худо. Но теперь, когда их благополучие зависело от собственных посадок, единорожки уже не могли позволить себе бросить все и пуститься в странствия. Значит, приходилось бороться с этими угрозами. Вот только имеющийся арсенал давал немного эффективных способов для этого. Фактически, единороги могли только закидать хищников дротиками. А что, если зверь подошел поближе? Лечь и дать себя съесть? Конечно же нет! В таком случае можно усилить дротик каменным наконечником и утяжелить смолой — эффективная дальность броска упадет, но возрастет убойная сила. А если волки подошли еще ближе? Еще утяжелить дротик — лететь он будет еще меньшее расстояние, но собаке-переростку мало не покажется! А если стая подобралась совсем близко? Еще утяжелить дротик. Конечно, теперь для броска рог придется поднапрячь, но… Стоп! А на кой Дискорд его теперь метать? Теперь им можно просто колоть зарвавшуюся псину! А если отбросить стереотипы, и удлинить древко, то делать это будет удобно и достаточно безопасно. Именно так, как оружие против стайных хищников, копье и возникло. А потом постепенно вышло за пределы опасных территорий и принялось постепенно распространяться среди других единорожьих табунов, живущих в более спокойных местах. Правда, процесс этот шел медленно и окончательно завершился лишь на поздних этапах эпохи варварства, когда копье окончательно стало оружием именно боевым. Автор понимает, что нет большого смысла описывать устройство единорожьего копья вам, дорогой читатель, но все же сделает это. Копье диких поней представляло собой длинную прямую палку, один из концов которой был либо заострен огнем или обстругиванием, либо к нему был примотан острый каменный наконечник (насаживание высверленного наконечника не практиковалось, так как тогда оно могло соскочить и остаться в теле жертвы или расколоться от чрезмерной нагрузки). Древко копья делалось, по понячьим меркам, довольно длинным: от 100см у коротких копий, использовавшихся для охраны посадок от всяких не слишком крупных дармоедов, до 150см у “волчьих” копий, применяемых для при обороне от крупных хищников. Дело в том, что понячий телекинез для своего использования требует видеть или “чувствовать рогом” объект манипулирование, а длинное древко гарантирует, что копье не уйдет полностью из-под контроля телекинетика. К тому же, чем длиннее древко, тем дальше волк от аппетитного кусочка понины. При обороне от хищников единороги обычно использовали целый набор родственного оружия: дротики, короткие копья, “волчьи” копья. Часть пони выставляли перед собой и упирали в землю длинные “волчьи” копья, стараясь удержать хищников на расстоянии. В это же время другие лошадки осыпали серых дротиками. Если кто-то из супостатов прорывался через ограду “волчьих” копий, то на него набрасывались третьи пони, с короткими копьями. В войнах у дикарей до копий, как и до ножей, дело доходило исключительно редко. Но, тем не менее, до наших времен дошло несколько произведений древнего эпоса и мифотворчества, описывающих межпоньские столкновения, где лошадки использовали копье друг против друга. В них отлично прослеживается ужас древних пони перед тем, что копьем единорожка способна наносить сородичу куда более опасные раны, чем могут своими зубами и когтями обычные для равнин хищники. В целом, копье став надежным защитником пони от хищников, так и не завоевало себе места на поле боя. Королем войны и символом единорожьей доблести (вместе с рогом) оно стало в более поздние эпохи. Небольшое отступление: Легенда о появлении копья https://ficbook.net/readfic/12819458/32940980#part_content 9) Посадки двутонных южанок беспокоили не только кролики, но и многочисленные южные насекомые, включая печально знаменитых параспрайтов. Правда, земли полосатых пони были богаты и на различные ядовитые травы, которыми можно было отвадить большинство вредителей. Так что, оседлые зебры готовили множество различных ядовитых и раздражающих зелий, которыми и опрыскивали поля через духовые трубки. Последние представляли из себя короткий (30-40см) пустотелый стебли южного камыша или высверленные деревянные палочки. Для распыления порошковидную отраву засыпали в трубку, потом, удерживая данный примитивный опрыскиватель копытом, глубоко вдыхали, подносили трубку к губам, и резко выдыхали, распыляя отраву по площади. Зелье разлеталось в радиусе 5-7 метров, но на расстоянии около полуметра оно образовывало особо плотную струю, под которой четвероногим огородницам лучше было не оказываться. Правда, как в силу не лучшей эффективности “сухого” применения ядохимикатов, так и в силу природной зловредности длинноухих, кролики быстро приспосабливались жрать “остренькие” посевы. Так что, кроличьи патрули были обязательны и для зебрят. Понятное дело, что просто гоняться за кроликом бесполезно – мелкий поганец, все равно, вернется доесть недоеденное. Тут, опять же, пригождались духовые трубки, но уже не как распылитель для потравы, а как направляющая для снарядов типа “кролик капут”. В основном, широко применялись два типа снарядов: а) мешочки с ядовитым зельем, и б) отравленные стрелки. Первые представляли собой неплотные мешочки из крупных листьев или травяного полотна, заполненные каким-нибудь ядовитым порошком, который в виде облака выбивался из снаряда при ударе о цель. Вторые были очень легкими стрелками из камыша, дерева или кроличьей кости, оперявшимися понячьим волосом и чей заостренный конец перед использованием смазывался (вернее, обмакивался в) полужидким ядовитым зельем. Интересной особенностью использования этих снарядов было то, что для перезарядки трубку не вынимали изо рта, а, задержав дыхание, вкладывали снаряд копытокинезом со свободного конца. Это обеспечивало неплохой темп стрельбы, но отрицательно сказывалось на безопасности (можно было вдохнуть отраву). Поэтому (и потому что жеребята были не дураки разнообразить отбывание повинности перестрелкой) яды против кроликов готовили очень слабыми, а в селении наготове всегда было специфическое противоядие и соответствующий запас питьевой воды. Последняя была бы непривычна ни нам, ни современным эквестрийцем, так как влялась либо чем-то крайне слабоалкогольным, либо очень слабым водным раствором какого-нибудь агрессивного химического агента (уксуса, к примеру) – обеззараживание воды при помощи кипячения зебрам в то время известно еще не было.
