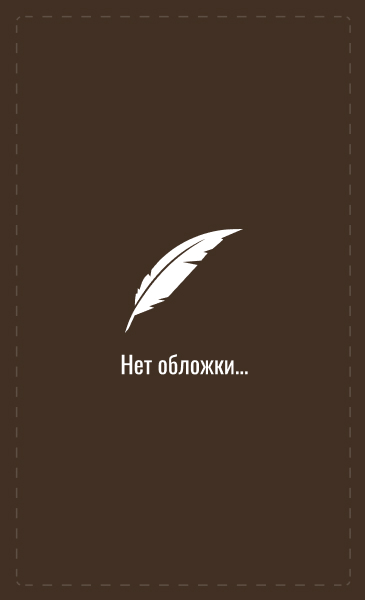
Пэйринг и персонажи
Метки
Описание
Сопоставление мотивов Легендариума Толкина и мифологии индоиранских народов на уровне архетипов.
Толкин и индуизм
18 ноября 2022, 06:04
Продолжая сравнительный анализ архетипических соответствий между толкиновским Легендариумом и мифологией индо-иранских народов, необходимо обратиться к индуизму. По мере своего развития индоарийское язычество было замещено современным индуизмом, сочетающем элементы пантеизма и монизма (представление о божественном Едином, различными проявлениями которого являются как божественные, так и демонические силы) и монотеизма (культ таких божеств, как Вишну и Шива, соотносимых с Абсолютом). Индуизм в ряде аспектов — полная противоположность зороастризма, причем различия между ними несводимы к дуализму «дэвы — ахуры», в рамках которого в индуизме поклоняются первым, а в зороастризме — вторым.
Зороастризм исходит из благости сотворённой Ормуздом материи и считает долгом праведника деятельно менять мир к лучшему[1] (ср. с деятельностью положительных персонажей Толкина). История мира в зороастризме линейна и должна завершиться торжеством сил добра и очищением мира, который станет раем на Земле, от зла (ср. с толкиновским Легендариумом). В зороастризме (в отличие от толкиновского культа Эру) всегда существовало организованное и политическое влиятельное жречество, однако царская власть на всём протяжении истории Ирана была более влиятельна. И даже в зороастрийской «священной истории» до Заратустры наиболее значимые персонажи это легендарные иранские цари из династий Парадата, Феридуна и Кеянидов.
Индуизм рассматривает материальный мир как «майю», преходящую и изменчивую иллюзию (ср. с толкиновским Легендариумом, где в «Атрабет», прямо сказано, что презрение к телу идёт от Моргота). История мира в индуизме представляет из себя бессмысленное цикличное круговращение — мир много раз возникал и погибал, и конца (как, впрочем, и начала) у этого процесса в принципе не предвидится. В рамках индуизма жречество (брахманы) стоит выше аристократии (кшатриев) — и такое классическое индуистское произведение, как «Махабхарата», это превосходство всячески подчёркивает, описывая, как брахман Парашурама — аватара бога Вишну — массово истребляет кшатриев, налив пять (!) кровавых озер, а Кришна — другая аватара Вишну — организует братоубийственную бойню на поле Куру, истребляя одних кшатриев, сторонников Кауравов, руками других — сторонников Пандавов[2].
Массовое истребление аватарами Вишну кшатриев (особенно — в случае основного конфликта «Махабхараты», то есть борьбы Пандавов и Кауравов) оправдывается тем, что умерщвляемые проводниками воли Кришны кшатрии — переродившиеся асуры, противники дэвов (богов). В своё время Толкин в своей лекции о «Беовульфе» («Чудовища и критики»), рассуждая о «Беовульфе», прибег к следующей аналогии:
«В заключение я бы хотел прибегнуть к вымышленному контрасту. Предположим, что наш поэт выбрал тему, куда более созвучную нашему «современному пониманию»: жизнь и смерть св. Освальда. Тогда его поэма начиналась бы с описания Хевенфилда, где Освальд молодым принцем чудом одержал важнейшую победу с остатком преданной дружины. Далее поэт бы перешел к тому, как прискорбное поражение при Освестри, казалось бы, положило конец надеждам на будущее христианства в Нортумбрии. Другие события из жизни Освальда, а также традиции королевского дома и его вражда с правящим домом Дейры в лучшем случае упоминались бы вскользь. За исключением историков, занятых поисками фактов и хронологии, все видели бы в этом произведении прекрасную героико–элегическую поэму, более великую, чем исторические события, в ней описываемые. Она была бы куда лучше простого повествования в стихах или в прозе, хоть бы даже и поступательно развивающегося. Сама композиция сделала бы ее более весомой, чем простое жизнеописание короля: контраст подъема и спада, подвига и смерти. Но даже в таком виде с «Беовульфом» ей было бы не сравниться. Поэме бы пошло только на пользу, если бы поэт обошелся с историей как угодно непочтительно, значительно продлив правление Освальда, сделав его прожившим полные забот и славы годы стариком на тот момент, когда король, полный тяжелых предчувствий, отправляется на битву с язычником Пендой: контраст между юностью и старостью намного усилил бы главную тему и придал бы ей более универсальное значение. Но даже такая поэма не могла бы сравниться с «Беовульфом». Чтобы поставить свою тему в один ряд с возвышением и падением несчастного «сказочного» Беовульфа, поэту пришлось бы превратить Кадваллона и Пенду в великанов и демонов».
По сути «Махабхарата» представляет из себя своего рода реализацию этой воображаемой ситуации — тривиальная (пусть и невероятно масштабная, затрагивающая чуть ли не всю тогдашнюю Индию) война Пандавов и Кауравов «ради царства и власти» приобретает космическое значение в контексте противостояние дэвов и асуров. Даже те бесчестные средства, посредством которых Пандавы достигают победы над Кауравами, оправдываются Кришной, в частности, именно тем, что и дэвы победили асуров бесчестным путем — то есть ссылкой на божественный авторитет.
Если зороастризм ушёл от кровавых жертвоприношений скота, то в таком направлении индуизма, как шиваизм (в противовес вишнуизму, практикующему бескровные жертвы), жертвоприношения животных сохранились, а в некоторых направлениях индуизма (в первую очередь — шиваитских и шактистских) очень долгое время, вплоть до современности, существовали даже человеческие жертвоприношения (в том числе — в форме ритуальных убийств, как в секте тугов), а в отдельных сектах вроде капалика и агхори — и людоедство[3]. В контексте параллелей толкиновского Легендариума и индуизма на уровне архетипов шиваизм соответствует мелькорианскому культу, как он описан у Толкина — да и сам объект поклонения шиваитов рядом своих черт напоминает именно Мелькора-Моргота. Но подробнее об этом — чуть позже.
Ключевую роль в индуизме играет Тримурти — троица Брахма-Вишну-Шива (создатель, хранитель и разрушитель мира)[4], причём образы Вишну и Шивы испытали мощное влияние до-арийского, дравидского населения Индии (у индоариев и до того был бог Вишну, но он играл не такую значимую роль в мифологии и, по-видимому, мог несколько отличаться от своей позднейшей версии). Любопытно, что если культы хранителя Вишну и разрушителя Шивы наличествуют, то влиятельного культа Брахмы, бога-создателя, не существует. Напротив, имеются сюжеты, подчёркивающие приниженный статус Брахмы относительно других богов. Так, в сюжете о шивалингаме ни Брахма, ни Вишну не смогли найти конца шивалингама — причём если Вишну хотя бы в силах признать своё поражение, то Брахма пытается обмануть Шиву, заявив, что он нашёл верхушку шивалингама — но тот, разумеется, разоблачает его ложь[5]. Более того, в своей ужасной ипостаси (Бхайрава) Шива даже оторвал Брахме голову.
В других сюжетах значение Брахмы принижается уже в сравнении не с Шивой, а с Вишну, поскольку он не может противостоять его двуединому аватаре Наре-Нараяне: «Для нас чрезвычайно важна аргументация верховного бога; Брахма ни словом не обмолвился о том, что Арджуна более достоин победы, чем Карна! Выбор Самосущего продиктован более прагматическими соображениями. Брахма напоминает собеседникам, что Арджуна и Кришна — «это два древних величайших мудреца, Нара и Нараяна, никому не подвластные», «творцы всего сущего и несущего». Отдать победу Карне — значит привести их в ярость, и тогда все миры будут уничтожены. Итак, ни о какой справедливости при определении или пересмотре судьбы Карны речи не идёт» (А. Р. Ибрагимов, «Образ Карны в Махабхарате»).
При попытке соотнесения индуистской мифологии с толкиновским Легендариумом вспоминается представление о Эру как о правителе, «что живет вне своего королевства и дозволяет вельможам делать что вздумается» («Атрабет Финрод ах Андрет») — в принципе, перекликающееся с индуистским образом Брахмы. Также и индуистский Шива — разрушитель мира, жаждущий кровавых (в том числе — человеческих) жертв, посылающий людям всевозможные стихийные бедствия и эпидемии, сопровождаемый свитой злых духов, являющийся покровителем разбойников, грабителей и воров. В Ведах Рудра — божество, тождественное будущему Шиве — прямо рассматривается как смертельно опасное существо (при жертвоприношении агни-хотра его даже специально «прогоняли»), которое не любят и которому поклоняются в первую очередь с умилостивительными целями[6]. В парадигме «Арда — [вымышленное] прошлое Земли» Шива (и Рудра как его непосредственный прототип) очевидно соответствует Морготу.
В «Махабхарате» Кришна излагает историю о том, как боги организовали жертвоприношение, на которое, однако, не пригласили Шиву — за что тот разгромил само жертвоприношение и покалечил многих богов (ср. с уничтожением Морготом Столпов Алмарена и Древ Валар). В Ведах подчёркивается пристрастие бога Рудры к крови — в том числе и человеческой. Иногда Рудру также связывали с Агни (куда более популярным богом), персонификацией огненной стихии и одновременно олицетворением самого процесса жертвоприношения (индоарии сжигали подношения в огне); у Толкина Мелькор также ещё в самых ранних текстах наделяется «огненной» природой.
Частичным, астрологическим воплощением Шивы является Шани — персонификация Сатурна как одной из наиболее «неблагоприятных» в астрологической традиции планет, «владыка карма», посылающий другим созданиям суровые наказания за малейшие провинности, допущенные ими (ср. с претензией Моргота на статус «Владыки Судеб Арды» в разговоре с Хурином Стойким). В индуизме есть история праведного царя Харишчандры, по смыслу соответствующая истории Иова в Библии (кстати, история Хурина у Толкина тоже имеет параллели с историей Иова) — в ней Шани играет ту же роль, что и библейский дьявол, жестоко истязая Харишчандру и его близких и ища возможности окончательно погубить своих жертв, дожидаясь, когда они совершат какой-нибудь грех и дадут ему тем самым повод для расправы с ними.
Шива не только окружён злыми духами и чудовищами — даже один из посвящённых ему гимнов, «Шива-тандава-стотра», написан ракшасом (ракшасы — злобные монстры-людоеды, подобные дэвам иранской традиции) Раваной[7]; сам Равана в некоторых текстах описывается как почитатель Шивы. В индийском эпосе «Рамаяна» Равана предстаёт как злодей, похитивший Ситу, преданную супругу царевича Айодхьи Рамы (который в индуизме почитается как аватара Вишну), и в итоге убитой Рамой. Вообще в индуистских сюжетах можно заметить определённые указания на наличие конфликта между Шивой и Вишну (отражающий, видимо, конфликты друг с другом их почитателей) — многие убитые Кришной цари являлись почитателями Шивы, а после битвы на поле Куру Шива помог недобитым воинам Кауравов (Ашваттхаману, Крипе и Критаварману) в ходе ночного нападения вырезать армию Пандавов, креатур Кришны: «Махабхарата» отразила и соперничество богов, вплоть до открытого сражения между ними (ср., например, XII, 344, вся X книга, где Шива представлен покрывателем гнусного преступления — предательского убийства спящих). В других местах поэмы, где поработала рука браминов, Шива отождествляется с Вишну и даже кое-где (особенно в книге XIII) его превосходит. В общем, места с положительным изображением Шивы явно более поздние и в основном тоне «Махабхараты» — отношение к Шиве отрицательное"[8].
Вишну в индуистской традиции предстаёт как коварный интриган, побеждающий не грубой силой, а хитростью, и действующий под множеством личин (аватар); в знаменитом философско-теологическом диалоге «Бхагавад-гита» он также представляется Арджуне множеством имён, под которыми он известен. В этом ключе он вполне соотносим со скандинавским Одином-Вотаном — и толкиновским Сауроном (напоминающим Кришну и своим безграничным цинизмом). Во время противостояния Пандавов и Кауравов, описанном в эпосе «Махабхарата», благодаря советам Кришны Пандавы и их союзники, позиционируемые в «Махабхарате» как праведники в противовес злодеям-Кауравам, победили Кауравов и их сторонников с помощью серии откровенно бесчестных трюков (Арджуна убил Бхишму, прикрываясь женщиной, и Карну, когда его колесница застряла в земле, Дхриштадьюмна обезглавил Дрону, сложившего оружие после обманного известия о гибели сына, а Бхимасена в поединке убил царя Кауравов, Дурьодхану, ударом булавой ниже пояса — при этом Кауравы за аналогичные или схожие хитрости автором «Махабхараты» неизменно осуждаются) — или, как их называет сам Кришна, «изобретательных средств» (!). Перед битвой на поле Куру Кришна под видом переговоров пытался убедить совет старейшин Куру выдать Пандавам лидеров кауравской «партии войны», а также подговорить Карну, одного из лучших воинов Кауравов, переметнуться на сторону Пандавов, обещая ему взамен царство рода Куру.
Рассматривая противостояние Пандавов и Кауравов в «Махабхарате», интересно отметить следующий нюанс. Партия Кауравов, на мой взгляд, имеет ярко выраженный кшатрийский характер: даже брахманы Крипа и Дрона в ней занимаются военным делом и преподают его царевичам рода Куру. Напротив, Пандавы находятся под влиянием брахманов — и Кришны, претендующего на статус носителя высшего религиозного откровения и не только направляющего, но и оправдывающего (во имя торжества целей Кришны «ложь должна быть выше правды») подлые поступки Пандавов. Сюжет о конфликте Кауравов с Пандавами (= Кришной) по сути продолжает тему конфликта кшатриев с Парашурамой. Для сравнения, у Толкина именно Саурон (в отличие от Моргота) пытался контролировать других существ не через прямую власть, а через религию (деятельность Аннатара в Эрегионе как «посланника Валар» и деятельность Зигура в Нуменоре как первосвященника мелькорианского культа — и, возможно, деятельность Саурона на Востоке и Юге Средиземья носила тот же характер). В представлении индуистов, Вишну дозволена ложь, в том числе ложь религиозного характера — в частности, аватарой Вишну они считают Будду, который пришёл, что соблазнить грешников буддистским лжеучением (ср. с толкиновским Сауроном, который одинаково охотно выдавал себя и за посланника Валар, и за приверженца Моргота).
Конечная цель битвы на поле Куру — чистка Земли от «лишнего» населения (ср. со словами Моргота из «Легенды Аданэль» — «А Мне нет дела, что кто-то из вас умирает, дабы насытилась Тьма; иначе вы расползетесь, как вши, по лику Земли») — подобно античной поэме «Киприи», согласно которой Зевс организовал Троянскую войну с теми же целями — и в достижении этой цели Кришна (= Вишну) и Шива едины, что объясняет тот факт, что уже после победы Пандавов армия их союзников-панчалов оказалась уничтожена с помощью Шивы (а позднее в междоусобной войне погибает и родное племя Кришны — ядавы), в то время как Кришна заранее вывез из их лагеря Пандавов:
Сказал с еле зримой улыбкою Шива:
«Мне Кришна служил хорошо, терпеливо,
Свершил для меня много славных деяний,
Всех честных, безгрешных мне Кришна желанней.
Тебя испытал я, его почитая,
Сокрытье панчалов содеяла майя,
Но так как безжалостно Время к панчалам,
Пусть ночь эта будет их смерти началом!»
Как я уже упоминал, ещё в ведийский период Рудра, будущий Шива, иногда соотносился с Агни как богом огня. В «Махабхарате» присутствует сюжет, где по просьбе брахмана Паваки (Павака — имя одного из сыновей Агни; собственно, это и был Агни) с ярко-рыжей (рыжий, красный — цвет Рудры) бородой Пандавы сжигают в пищу Паваке лес Кхандава со всеми его обитателями (включая разумных существ, таких как наги — там погибла, в частности, мать нага Ашвасены, в битве на поле Куру пришедшего на помощь Карне против Арджуны). Выглядит это следующим образом: «В то время как горел лес Кхандава, живые существа тысячами подняли ужасный рев, наполняя десять сторон. У многих из них была сожжена одна какая-нибудь часть тела, другие были совсем обожжены, а у иных полопались глаза, некоторые были искалечены, иные же разбежались повсюду в замешательстве. Некоторые, обняв своих детей или же отцов и матерей, не в силах были покинуть их из любви и так находили гибель. Другие же с обезображенным видом взлетали вверх тысячами и, покружившись там и сям, снова попадали в огонь. С обгорелыми крыльями, глазами и ногами они трепыхались на земле. И казалось, что повсюду там гибли твари. И в то время как водоемы все начинали кипеть (от огня), о Бхарата, тысячи черепах и рыб (которые обитали в них) казались безжизненными. И когда в том лесу истреблялись живые существа, они с горящими телами напоминали собою воплощенные огни. А тех из них, которые взлетали вверх, Партха [Арджуна], разрывая стрелами на куски, со смехом бросал их затем в пылающий огонь». По сути, всё происходящее в «Махабхарате» — грандиозное жертвоприношение живых существ, в том числе — и людей (апофеозом которого становится битва на поле Куру), богам индуизма — не менее равнодушным к человеческим страданиям (а то и вовсе откровенно-кровожадным), лживым и вероломным, чем толкиновские Моргот и Саурон. Не случайно один из ключевых сюжетов «Махабхараты» — массовое жертвоприношение нагов (разумных змей), опять же, посредством ритуального сожжения, организованное царём Джанаманджеей, правнуком Арджуны и правнучатым племянником Кришны:Они, материнскою прокляты властью,
Ползли, пожираемы огненной пастью.
Что было для чистого сердца страшнее,
Чем гнусные змеи, коварные змеи?
А ныне смотрели живые творенья,
Как топливом стали они для горенья.
Те самые змеи, сообщество злое,
Что ужас на все наводило живое, -
Бессильны, безвольны, покорны, трусливы,
Теперь устремлялись в огонь справедливый.
Представляется глубоко символичным, что одержимость множества европейцев в начале XX века «арийским мифом» в итоге сопровождалась реализацией фантазий автора «Махабхараты» на практике. Сам Толкин, насколько можно судить, от «арийского мифа» был свободен — а образ истерлингов Третьей Эпохи наводит на мысль, что у него содержится и критика в его адрес. В его творчестве можно найти критику многих «слабых мест» язычества, содержащихся и в традиции индоиранских народов — от присущего архаике культа воинской доблести ради неё самой до толкования природы Бога в ключе откровенной моральной амбивалентности (выраженного в образах Вишну и Шивы). Вместе с тем в плане терпимого отношения Толкина к другим элементам языческого наследия его можно сравнить с зороастрийцами, религия которых интегрировала в себя и «переварила» другие, более конструктивные элементы индоиранского язычества. [1]"Первый вопрос колдун Ахт <…> задал такой: — Лучше [ли] рай на земле или на небесах? Явишт Фриян сказал: — Лживый негодяй и тиран! Влачи свою жизнь в нищете, а после смерти попади в ад! Ибо рай на земле лучше рая на небесах [Ч]. Ведь тот, кто не совершает добрых дел на земле, в небесный рай не попадает» (Иван Рак, «Зороастрийская мифология»). Отсюда в зороастризме и возникли хилиастические течения, подобные маздакизму и религиозным течениям, сложившимся на его основе (муканниты, хуррамиты). [2] https://www.ahakimov.com/vedic/mahabharata-text/mahabharata-text/adiparva-pervaya-kniga/vstuplenie-glava-1.html? «А Васудеву [Кришну], когда он услышал о том, охватил великий гнев. Он был крайне недоволен в душе, но выразил одобрение состязанию и следил за игрой и за другими страшными и дерзкими плутнями. Не обращая внимания на Видуру, Бхишму, Дрону и Крипу, сына Шарадвана, он (побудил) кшатриев уничтожать друг друга в жестокой битве». [3] Подробнее см. посвящённое этим сектам исследование Мирчи Элиаде: https://askrsvarte.org/blog/post_37/ [4] Индра, прежний царь богов (дэвов), отходит на второй план — и возникают мифы, в которых он не может победить асуров без помощи Вишну или Шивы. [5] https://dr-slabinsky.livejournal.com/1078890.html? [6] https://den-king.livejournal.com/170691.html? [7] https://manfinnar.livejournal.com/127162.html? [8] http://bhagavadgita.ru/krishna_gopala_kult.htm
