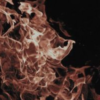Пэйринг и персонажи
Метки
Описание
Раньше жутко любил он сказки. А в сказках тех все прекрасные княжны и знатные бароны, рыцари, драконы, прочья лабуда и ни капли правды, ни единой капельки. Ведь правда в том, что мир — всего лишь сборище гнили. Ламберт знает, на своей шкуре испытал.
.
27 марта 2021, 11:00
Во снах Ламберта всегда пахло хлебом.
Хлебом, не кровью, не мертвечиной, не потрохами утопцев, не выворачивающей наизнанку вонью гнильцов, а хлебом, душистым таким, теплым, мягким.
Как будто мамка из печи только-что достала, жаром окутан ещё, в пальцы жжет, холера, но пахнет то как, прям желудок сводит и кишки марш играют.
И словно сидит он там, в Темерской деревушке, в маленькой, выбеленной хатке за укрытым скатертью столом, сидит и давится тем самым хлебом, уминая за две щеки. Понятия не имеет, чем альгули отличаются от гулей, и сколько Иволги стоит выхлебать чтобы не сдохнуть от трупного яда, сидит и в жизни не ведает, как остервенело воет вовкулак темной ночью, как пляшет в колосьях пшеницы полуденница.
Пока этого нет.
Всё это случится с ним позже, когда… Ламберт не любит это вспоминать.
«Тише, чертята, тише — вот папка сейчас придет, на стол накрою, обождите чуток, неугомонные, обождите.» — смеется мать помешивая суп в котелке, варево кипит, булькает, переворачивается, убежать проклятое хочет, да вот ложка ему не дает.
«А папка бусы мне купит, мама? Красные такие, будто рябина, на ярмарке такие уж точно есть, обещался он ведь мне, я же запомнила » — Хитро глазеет Марилька заплетая темную косу у окна, коса у неё всегда красивая, пышная, гладкая, как не залюбоваться ею, вот и любуются, половина деревни, если того не больше. Слетелись бы все, как те наглые осы на мёд, вот только отца их боятся, суровый он шибко у них. Но Марильке ведь всё будто нипочем, словно не видит, что на улице краше всех меж девчатами. Пятнадцатый годок ей идет, весною Яков её засватать уж ручался, вот она и цветет, как та рожь в войтовском саду.
В хате чисто, половицы скрипучие, старые, но ещё крепкие, папка говорит, что прослужат ещё ого-го, оконца маленькие, занавески с узором вышитым, скамьи вдоль стен деревянные, дубовые, надежные, Ламберт резвится на них с Матеушем, дурачатся как шальные, правда, не Ламбертом его тогда ещё зовут.
«Войтек, горе ты моё луковое» — Не злобливо ругает его мамка, когда садится рубаху ему шить, шила ведь уже недавно, а она вот опять вся в дырах, рукав болтается, пуговица держится на честном слове.
Он же лишь пожимает плечами, мол не знает ничего, словно рубаха не его и дыры эти тоже не им сделаны.
И радостно ему отчего-то так, хоть дождь за окном и осень уже поздняя, хоть на улицу салки да жмурки поиграть не пускают, но на сердце хорошо, а если к печи придвинуться так и вовсе все невзгоды кажутся дурью.
Открываются двери.
Не мягко, не тихо, а с размаху чуть не слетая с железных петель.
Обозленный сквозняк влетает в светлицу, пробегает по ней, колючий, свирепый, как соседский пёс.
Матеуш настороженно замирает, мать отрываеться от шытья, Марилька так и застыла у окна, белая как мел, гребень из рук выскользнул, с глухим стуком свалился на пол, да так и остался лежать там, поднимать то никто и не кинулся.
Ламберт открывает глаза среди темноты и ночи, хотя, темнота то ему ни по чем, глаза у него сейчас, как у кошки, видят среди ночи, как средь белого дня. А когда-то были голубые, или серые? Курва, уже и не вспомнить, хоть кожу с себя сдирай и то не поможет.
Он распахнул седельную сумку, порылся внутри, нашел сосуд, очарованно поглядел на содержимое, должно быть так заворожено он не глядел даже на ту пышную кметку в селеньи, что миновал тремя днями ранее. Ламберт резко откупорил бутылек, жадно приложился. Душило желание приложиться получше, но ведь будут дни попаскуднее и ночи похуже, он это знает, теперь точно знает, что жизнь сука, которая пускается по наклонной от определенной точки и всё вниз, вниз, вниз, пока не подохнешь.
А подохнуть ведь он мог ещё вчера, подохнуть среди того вязкого болота и глубоких трясин с утопцами, пошел бы на дно там и снов этих дурных больше не видел, но нет же, ему вздумалось жить, а если уж ему что-то вздумается, то он зубами это выдрать может и не подавится.
Рассвет был где-то там, далеко на Востоке, за острыми горными шпилями и хребтами, ждать его оставалось добрых три, быть может четыре часа. И Ламберт ждет, вглядываясь в тлеющие угольки костра перед собой, вслушиваясь в тихое пофыркивание Бьянки, дрянной клячи, которую он ненавидит ещё пуще прежней. Хоть та и была до дурости несносной, всё брыкалась, кусалась, легалась, вставала на дыбы, но было в этом что-то, кто-то поизыскание да поблагороднее назвал бы это шармом, изюминкой, прелестью, Ламберт же звал это холерой. Да, определенно была в той прошлой кляче какая-то холера от которой Ламберт её почти что ненавидел меньше, чем остальных. И почти жалел, когда в схватке её черкнула виверна, и лошадку пришлось добивать, глаза у неё были такие, такие печальные.
Нет, по настоящему глаза были печальные у мамки, тогда, когда на пороге вместо отца стоял войт, а в руках держал бусы, красные такие, Ламберт до сих пор помнит. Такие красные, что вязкая кровь на них сливалась и казалась почти незаметной, чья кровь это тогда была сообразить ему было не по силам, мал, глуп, в сказки ещё верил.
А в сказках папки никогда не умирали, и мамки не падали хватаясь за сердце, в сказках были насплошь княжны и бароны, рыцари, драконы, прочья лабуда.
Тем вечером на стол никто так и не накрывал.
Хлеб давно остыл в печи, суп сбежал, лишь жалкая горсть на дне котелка осталась.
Марилька всё плакала, прижимала Матеуша к себе, обнимала Ламберта так, что казалось сейчас задушит и косточки все переломает, рыдать, как баба он не хотел, но слезы катились, катились, катились, и щеки жгли, и глаза щепали, и поделать с собой ничего не мог.
По дому сновали тетечки, чужие, незнакомые ему тетечки, он их раньше и видел то может всего пару раз, и знать не знал, чего они пришли, чего топчутся по чистых половицах, ведь Марильке потом опять придется мыть.
Кто-то сказал, что мамка их захворала, сильно захворала, поэтому и уснула, приказано было не будить, а тётки эти всё тряпки какие-то носили, воду таскали, будто мыть что-то собрались.
Но Ламберт не понимал, куда ему уж, лишь шесть летом сравнялось.
Понял всё он лишь когда на кладбище зарывали два гроба, а вместе с теми гробами зарыли и частичку его, частичку Матеуша и Марильки, часть семьи, которая у них была, счастливой семьи, ведь никогда они не бедствовали.
Только потом, спустя долгие годы он наконец-то вразумел, что именно с того проклятого дня и жизнь его пошла по наклонной, всё вниз, вниз, вниз, и к самому дну. Больше он не знал, как это чудно сидеть за укрытым скатертью столом и жевать мамин хлеб на две щеки, у Марильки хлеб такой никогда не получался.
Зима того года им троим была проклятьем, морозы давили, пурга мела, и среди пурги той, они с Матеушем, в отцовских сапогах и материнской хустке бредут сквозь лес с охапкой дров, застревают в сугробах, падают, но встают. Дома ведь ждет Марилька, варит суп, пресный такой, невкусный, словно водица, но они хлебают эту водицу так жадно, лишь бы выловить кусочки морковки на самом дне. А потом взбираются на едва ли теплую печь, прижимаются друг к другу, как цыплята в непогоду, а Марилька шьет, латает три раза перелатанные рубахи, ведь новых то им не видать. Свеча тихо подрагивает на подоконнике, и в тусклом свете Ламберт замечает первый раз, какие тощие у него руки, и как сильно выпирают рёбра у брата.
А весною её сосватали, Марильку их. Правда сватов не Яков прислал, незачем Якову была сирота бесприданница, с двумя мальчишками на шее, деть которых ей некуда, хоть прокормить и не по силам. И шла Марилька под венец, как на шибеницу, тонкая, бледная, в платье с материнского перешитом. Куда ей деваться было, знала ведь, не глупа, ещё одну такую зиму не выдержали б.
Ламберт стряхнул с себя то ли полусон, то ли полубред, не близко ещё было к зареву рассвета, далеко ещё к солнцу, что выплывет на алый небосклон.
Он вдохнул воздух поглубже, холодный, свежий, щекочущий изнутри.
Черти бы побрали то лето, что появлялось перед глазами. Самая жатва, пшеница, колосья золотые. Не их поле, не их пшеница, чужое всё, чужое, Матеуш косит, Ламберт собирает снопы, два колоска в сноп один в карман. Едва ли рассвело, холодная роса неприятно покалывает пальцы, влажные колосья и упругие стебли сопротивляются его маленьким рученкам, но ему нельзя сдаваться. Не позволено. Ведь если справятся пораньше, войт шесть оринов обещал, а ещё целую краюху доброго хлеба.
«Не говори, что шесть оринов дал.» — Учит Матеуш налегая на косу, ему только десять, но все мужики говорят, что косит он исправно, ещё год — два и к самому барону на жатву возьмут. А у барона то пшеница, не чета здешней. — «Не говори, что шесть оринов на руках у нас есть, Войтек. Отберет же, сука старая.»
Ламберт и без того знает, что отберет, всегда отбирает, а если сам не отдашь так ещё и вмажет хорошенько. Ненавидит он их, и Марильку тоже ненавидит, если любил бы то она б не плакала, не жалась в куток, когда Симон вваливается в дом после работы в кузнице.
Не добрый он, по глазам даже видно, лыбится на людях, по голове треплет, лжет сволочь, мол они ему, как сыновья, а потом, потом приходит ночь и Ламберт забивается в угол. И хату, где когда-то пахло свежим хлебом заполняет страх, его так много, что лезет наружу сквозь приоткрытые окна.
Осенью должно бы наступить затишье. Поля собраны, лишь земля чернеет, в коморе мука и зерно, голод за спиной уже не так страшно дышит. Марилька дитя под сердцем носила и хата как будто ожила, ожила, пока жаровню в кузнице потушить не забыли.
Пока кузница та не горела целую ночь как огромный костер до самого утра. Пока Симон не начал ходить в корчму вместо кузницы. Пока не начали его оттуда мертвенно пьяного приносить.
А потом, в октябре, или это ноябрь начинался.
Ламберту не припомнить, мутации бесповоротно меняют организм и неизменно уничтожают там что-то, у кого то память, у кого-то чувства, едкие составы чародеев выедают всё до тла как известь, оставляют пустую флягу, которую им предстоит наполнить заново. Превратить мальчика в убийцу, убийцу чудовищ, но отнюдь не всех, некоторых чудовищ трогать запрещено, кодексом, уставами, правилами, хотя кому он врёт, он ведь трогал, да ещё как, так что раны оказывались смертельными.
Ламберт знал лишь, что продали их за двенадцать оринов.
Его и Матеуша.
В один вечер, когда Симон вернулся с корчмы не один, с другом.
Страшным другом и очи в того друга были, как у змеи с зрачками-полосками.
Дали за них в два раза меньше, чем за доброго вола, и тошно от этого как-то было, гадко.
«Прости!» — Марилька стояла перед ним на коленях, умоляла, плакала, поделать вот только ничего не могла, баба ведь, что с неё. — «Прости меня! И его прости. Он задолжал ему, проиграл ему. Прости и не держи зла, Войтек.»
Поздно.
Ламберт уже тогда был зол, на весь мир, на всю его несправедливость, ещё в тот вечер, когда старый ведьмак втащил его в седло, яда в нём было больше, чем в хвосте виверны. И яд этот с каждым днём разъедал у него внутри то, что ещё осталось от прежней оболочки.
С того дня с него испарялась жалость, как вода из лужи в солнечный день, жалеть можно лишь себя, и то тихо, так чтобы не заметили.
Ведь все люди сволочи, гадкие, бесчестные, противные, правда, каждый в разной степени, но это не имеет сути. Свет этот и нравы его никогда не были созданы для слабых, добрых, чутких, такие умирают едва ли столкнувшись с злом и болью, а Ламберт живет, Ламберт живет до сих пор, хотя Войтек и умер.
Войтек умер на узкой койке в Каэр Морхене годков так тридцать назад, не выдержал он, бедняга, действий эликсиров, трансмутаций и боли от которой жилы стягивает в узел. Слабый, голубоглазый Войтек метался, как шальной, когда старый чародей вводил ему в жилы мутагены, а на восьмой день Ламберт открыл глаза и были они змеиными.
Матеуш вот не открыл, и это было, сука, страшно несправедливо, страшно больно, страшно досадно, просто страшно, ведь с того дня Ламберт остался один, как былина в поле.
И как бешеный пёс начал кусать руки, что тянутся погладить, ведь кто знает, могут и огреть хорошенько. Нет, он не боится, просто знает, как долго сходят синяки, и как ноют ночами старые раны.
Солнечный луч скользнул по его лицу, тепло, приятно, но вовсе не радостно.
Ламберт не помнил, когда чувствовал радость в последний раз.
Может, когда перерезал бычье горло Симона? Нет, тогда это был долг. Долг Марильке и Матеушу. Но и прежде всего Войтеку — мальчишке с голубыми глазами.