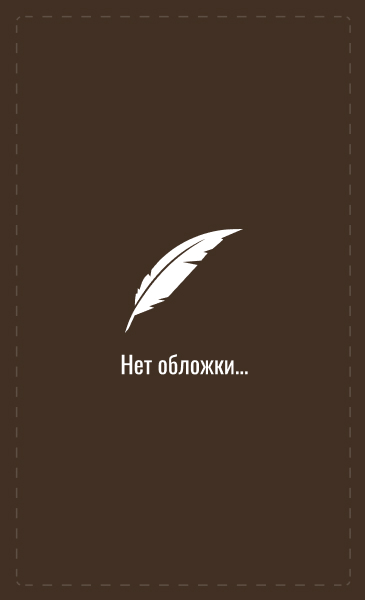
Описание
Размышления о смысле рассказа «Если бы я был взрослым».
О рассказе «Если бы я был взрослым»
27 января 2021, 02:53
Рассказ Виктора Драгунского «Если бы я был взрослым» включён в школьную программу за 4-й класс, следовательно, разработчиками школьной программы предполагается, что ученик 4-го класса понять смысл и посыл рассказа вполне способен. Не буду оспаривать данный тезис: преуменьшать детские способности к пониманию того или иного текста не стоит. Хотелось бы только отметить, что в российских школах даже касательно произведений более старших классов зачастую предполагается, что существует лишь одно правильное прочтение произведения, которое должен озвучить ученик, чтобы получить хорошую оценку учителя. Произведения же начальной школы считаются учащими таким достаточно примитивным вещам, как, к примеру, «слушаться старших». Понять смысл и посыл рассказа в данном возрасте можно, но можно и вложить себе в голову объяснение смысла учителем, который от какого-то аспекта рассказа внимание маленького читателя может и отвести.
Почему я пишу эссе на тему рассказа, который, казалось бы, есть всего лишь ироничное описание фантазии маленького мальчика о том, что бы случилось, если бы дети и взрослые поменялись местами? Дело в том, что детская литература вполне заслуживает того, чтобы её обсуждать серьёзно, ибо и она сама, и то, как она подаётся родителями и учителями, оказывает огромное влияние на формирование личности читателя-ребёнка. Кроме того, в современной российской прогрессивистской среде ощущается тенденция к тому, чтобы и не пытаться нащупывать подходящую почву в отечественной литературе, а рассчитывать её найти исключительно в западных произведениях, и даже по отношению к ним, при том, что они не несут ничего похожего на прямую дискриминационную пропаганду, наблюдается тенденция инквизиторского восприятия. Но эта тема для отдельного разговора.
На самом деле трогательное произведение от того становится трогательным, что ему веришь, а чтобы читатель верил, писатель должен стать хорошим житейским психологом. Навязать плохие ценности через произведение искусства, а не через пропаганду, конечно, возможно, но простоту данной задачи преувеличивать не стоит. Приём «просто подать как должное» работает в трансляции плохих идей только тогда, когда его в отношении какой-то идеи используют все. А случается это в основном там, где и так уже установлен тоталитарный режим и пропаганда — тогда разрешённое искусство становится лишь дополнением. Есть иные приёмы, они, как правило, работают несколько лучше. Например, сделать человека, который является транслятором чуждых автору идей, внешне непривлекательным, а человека, который ему противостоит, напротив, наделить притягательностью. Приём, безусловно, пошлый, но не столь редок в использовании и часто является эффективным. Ещё один нередко использующийся приём — когда персонаж, транслирующий чуждые автору идеи, склонен к подлости, а противостоящий ему персонаж, напротив, к честности. Каков уровень пошлости данного приёма? Он перестаёт быть пошлым, когда начинаешь верить, что чуждые автору идеи и подлость связаны закономерно, и что также закономерно связаны честность и близкие автору идеи. Однако не всегда так просто донести это через произведение.
А вот что с произведениями на тему отношений между родителями и маленькими детьми? Мы привыкли к тому, что если в таком произведении родители неправы, то по-видимому это должно быть что-то такое, что детям читать ещё рано. На самом деле детям, чьи родители неправильно их воспитывают, полезно осознать это рано. Понять это во взрослом возрасте может быть куда более болезненно. Причём желательно, чтобы ребёнок понимал, в каких именно аспектах его воспитывают неправильно, а также не допустил логической ошибки, что если родители его неправы в чём-то одном, значит, неправы во всём.
В рассказе есть важный аспект, от которого российский учитель, скорее всего, отведёт внимание школьника. А именно, что мальчик, регулярно слышащий от родителей фразы вроде «ты не девчонка», воодушевлённо фантазируя о том, что было бы, «если бы он был взрослым», описывает, как бы он цокал каблуками и подолгу вертелся перед зеркалом. Представляя себя «взрослым», мальчик воспроизводит не мужскую модель поведения отца, он представляет себя на месте если не одной только матери, то как минимум в том числе на её месте. Думается, не случайно его фантазии прерывает в этот самый момент именно мать.
Мальчик воодушевлённо представляет себя в женской гендерной роли, при этом регулярно слыша фразы вроде «ты не девчонка». Однако будет ли на уроке литературы в 4-м классе озвучен этот момент? Навряд ли. Учитель отведёт внимание учеников от него — и напрасно, ибо если произведение включено в программу какого-то класса, значит, ожидается, что как минимум часть детей уже может понять произведение целиком и полностью.
Если это писал человек, не склонный к традиционалистическому мировоззрению, то посыла, что родители поступают нормально, говоря «не хлюпай носом, ты не девчонка», мы не предполагаем априори. Но вот представим, что это писал традиционалист, верящий, что любому мальчику можно и нужно привить маскулинность. Тогда возникнет вопрос: а с точки зрения традиционалиста, правильно ли поступали родители, если их действия привели к подобной фантазии? Как-то и получается, что рассказ о том, как воспитывать детей не надо, с какой позиции не посмотри.
Был ли Виктор Драгунский традиционалистом? Можем ли мы понять это про человека, который, будучи легальным детским писателем, скончался в 1972-м году?
Что мы знаем достоверно, так это то, что его дочь и по сути дела литературная ученица Ксения Драгунская — традиционалисткой не стала. Не примкнула она к тем, кто стал возмущаться выходящими на Западе детскими книгами с репрезентацией гендерной нонконформности. Да и достаточно прочесть её маленький шутливый рассказ «Когда я была маленькая, я была мальчиком», чтобы не удивиться тому, какой вопль протеста её творчество встретило со стороны всяких традиционалистических «родительских комитетов».
Разумеется, не стоит отождествлять мировоззрение дочери, уважающей своего отца и являющейся его литературной ученицей, и мировоззрение самого Виктора Драгунского. Однако Ксения не стала традиционалисткой закономерно. Ибо рассказ «Если бы я был взрослым», написанный в советские годы, отнюдь не традиционалистический, и потому является закономерной предтечей к тем рассказам, в которых это будет проявлено более явно.
Не стоит избегать советской детской литературы. Стоит ценить ту литературу, что имеется — и уметь её читать вдумчиво. Не стоит учить детей проглатывать её бездумно, но не нужно также смотреть на неё инквизиторским взглядом, выискивая в каждой строчке, что в ней может быть вредного, устаревшего и потому не рекомендованного к чтению детей будущих поколений. В ней гораздо больше того, чего для них будет полезно, чем может показаться. Гораздо страшнее, когда её учат недопонимать.

